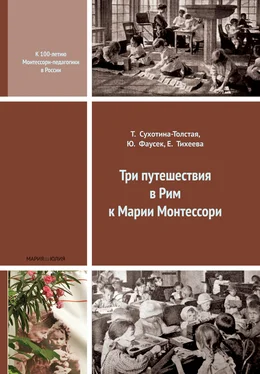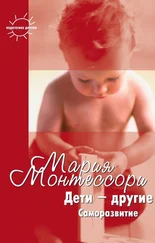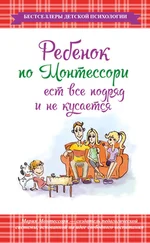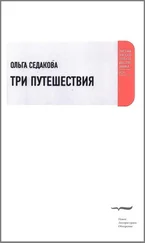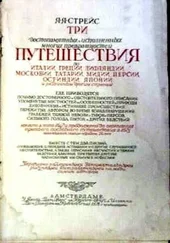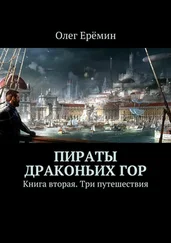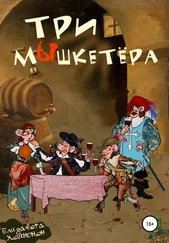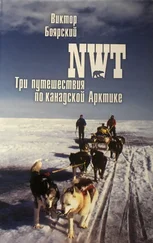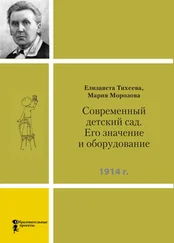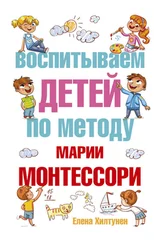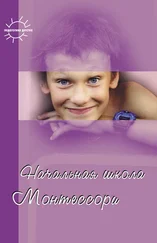Не удивительно, что она ощущала чужеродность своим излюбленным замыслам и в монтессорианских «уроках тишины», и в чёткой регламентированности материалов, и в отведении игры как бы на второй план детской жизни, и в высоких словах о «свободном воспитании», далеко не во всём (на её взгляд) подтверждаемых практикой, и в общественных восторгах по поводу всеразрешающей силы очередного передового метода…
Спор двух выдающихся и самоотверженных деятельниц российского образования, конечно, не был случаен, развивался далеко не только из-за тех или иных личных пристрастий. (Хотя известно: когда начинается любое новое дело, даже особенности характеров основоположников часто оказывают на его развитие сильное влияние).
Дело было не только в тех или иных индивидуальных предпочтениях авторов. Этот диалог, свидетелями которого мы сегодня становимся, – о путях образования. А поскольку его участницы были не только теоретическими сторонницами того или иного подхода, добросовестными исследователями, но и активно работающими практиками, яростными пропагандистами идей, то этот спор во многом повлиял на характер развития детских садов и массового педагогического образования воспитателей в России.
В последующее за выходом этих книг десятилетие Е. И. Тихеева и Ю. И. Фаусек станут едва ли не главными личностями, вокруг которых забурлило становящееся массовое педагогическое образование воспитателей. К концу же двадцатых годов, после этапа яркого развития, педагогика Монтессори была практически запрещена в СССР и воскрешена уже в конце восьмидесятых, вновь вызывая бурные споры о своей естественности или надуманности, инородности или органичности для русской почвы.
Убеждения же, открытия, принципы Е. И.Тихеевой, одной из основоположниц дошкольного факультета Ленинградского Пединститута, во многом определят культурные традиции советской дошкольной педагогики. Эти традиции останутся живыми и действенными в руках тех, кому они передавались «из рук в руки»: в среде избранных судьбой воспитателей и лучших «дошкольных» учёных. В массовом же употреблении канонизированные (вроде бы) традиции «системы Тихеевой» будут «засушены», обездвижены, лишены всякой живой взаимосвязности, гибкости и открытости к детям.
Кто знает, сколько бы ещё пользы дошкольному делу в нашей стране принесли участницы этого диалога и их последователи, как вообще развивалось бы дошкольное образование, если бы их спор не был бы перенесён в те годы, когда содержательные аргументы в честном научном споре часто становились статьями обвинения…
Ю. И. Фаусек (и мы все вместе с ней) проиграла в этом споре – монтессори-педагогика на долгие десятилетия была запрещена в нашей стране. Но и Е. И. Тихеева, к сожалению, тоже не выиграла. Поскольку её замечательные идеи и предложения по организации жизни детей в детском саду были во многом формализованы, и, как часто случается в таких случаях, превращены в массовой практике детских садов в их противоположность.
Всесторонняя регламентация, без-ответственная декламация отвлечённых принципов, навязчивое стремление к полной тишине, подавление самостоятельности воспитателей предписаниями инструкций – всё то, в чём подозревала когда-то Елизавета Ивановна последователей Монтессори, по парадоксу судьбы стало характерными чертами множества советских детских садов, как бы воплощавших и развивавших идеи Тихеевой…
Видимо, дело не в специфике монтессорианских подходов, а в общих коренных проблемах педагогической жизни. Пусть этот столетней давности спор поможет нам оценивать их внимательней и мудрее.
Андрей Русаков, Елена Хилтунен
Татьяна Львовна Сухотина-Толстая. Мария Монтессори и новое воспитание. 1914 г.

Татьяна Львовна Сухотина-Толстая (родилась 4 октября 1864; умерла 21 сентября 1950) – дочь Л.Н. Толстого. В Татьяне Львовне соединились особенности характеров обоих её родителей. От матери она унаследовала практичность, способность заниматься самыми разными делами, как и мать, она любила туалеты, развлечения, была не лишена тщеславия. Татьяна одинаково близка была и отцу, и матери.
В 1872 г. Л. Н. Толстой в письме к А. А. Толстой дал дочери такую характеристику: «Тане – 8 лет. Если бы она была Адамова старшая дочь и не было бы детей меньше её, она была бы несчастная девочка. Лучшее удовольствие её возиться с маленькими… её мечта теперь сознательная – иметь детей… Она не любит работать умом, но механизм головы хороший. Она будет женщина прекрасная, если Бог даст ей мужа…» Татьяна Львовна рано проявила способности к рисованию. В 1881 г. она поступила в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве. Её учителями были В. Г. Перов, И. М. Прянишников, Л. О. Пастернак.
Читать дальше