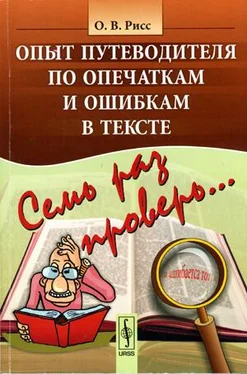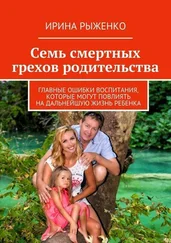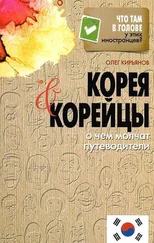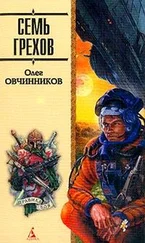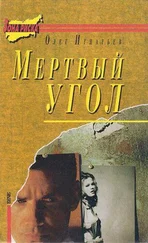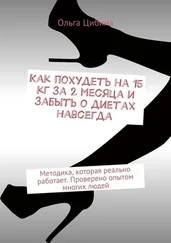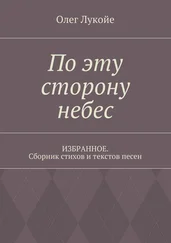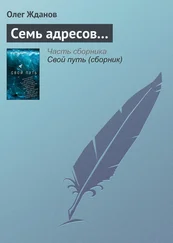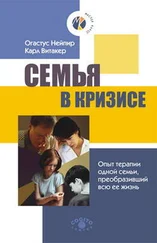После всего сказанного, после того как мы на ряде фактов удостоверились в чудесных свойствах нашего доброго проводника по печатным строчкам, не умолчав и о его, осторожно заметим, «недоработках», — нетрудно прийти к несколько парадоксальному выводу, что положительный результат в зрительной работе зависит не столько от возможностей глаза, сколько... от нас самих! Посмейте-ка пристыдить его за пропущенную ошибку (а ведь в десятках книг походя ссылаются на несовершенство зрительного аппарата человека), и вы можете услышать в ответ мораль из басни Крылова: «Нет, стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому, кто не умел понять, к чему я годен!»
Знаменитый девиз И. П. Павлова «Наблюдательность и наблюдательность» реже всего приходит на ум во время чтения. Читать и наблюдать, казалось бы, разные вещи. Психологи изучают различные типы чтения, но говорят либо об обычном, беглом чтении, без углубления в содержание, либо о серьезном чтении, ставящем целью изучение вопроса, о котором трактует статья или книга. Эмоциональный тип чтения, рассчитанный на художественное восприятие текста, кажется несовместимым со строго аналитическим (корректорским) чтением, имеющим целью проверку правильности текста с формальной, прежде всего орфографической стороны [ 128, с. 88].
Одним словом, каждый читает по-своему в зависимости от того, что намерен получить от книги и дать ей сам. Изрядную группу читателей составляют те, кому по роду их деятельности положено находить в тексте и устранять допущенные ранее ошибки. Не думайте, что это сравнительно узкий круг редакторов-текстологов и корректоров. Нет, в числе их и учителя, проверяющие тетрадки учеников, и сверщики телеграмм перед вручением их адресатам, и художники-плакатисты, и представители ряда других профессий. Все они образуют особый тип читателей, который мы, соединяя понятия «читать» и «наблюдать», назвали бы читателем-наблюдателем .
Читатель-наблюдатель — это, возможно, высший тип читателя, наиболее рационально использующий ресурсы своего зрительного аппарата, включая зрительную память. Это читатель, который в наибольшей степени развил в себе способность к «визуальному мышлению» (по термину итальянского художника Эудженио Карми, работающего над этой проблемой) [ 121, с. 27]). Яркий, поистине уникальный образец такого читателя-наблюдателя представил профессор А. Р. Лурия в завоевавшей широкую популярность «Маленькой книжке о большой памяти».
Ученый имел возможность долгие годы наблюдать человека с выдающейся памятью. По меткому выражению автора, ум этого человека работал с помощью зрения (у рядовых людей, наоборот, зрение работает с помощью ума). В нем не надо было развивать наблюдательность — она составляла неотъемлемое прирожденное свойство его ума [ 69, с . 54] .
При чтении у мнемониста Ш. возникали настолько яркие и прочные зрительные образы, что он не пропускал ни одной детали в описаниях и часто подмечал противоречия и ошибки, которые ускользали от внимания самих авторов. Так, читая «Хамелеон» Чехова, Ш. мигом запомнил, что полицейский надзиратель Очумелов идет через базарную площадь в новой шинели. Поэтому его сразу поразило несоответствие на следующей странице, когда Очумелов говорит городовому: «Сними-ка, Елдырин, с меня пальто». В начале рассказа «Толстый и тонкий» написано: «Нафанаил немного подумал и снял шапку», а кончается рассказ словами: «Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены».
Подготовленный читатель-наблюдатель, имеющий солидное образование и профессиональные навыки, вероятно, в некоторых отношениях даже превзойдет выдающегося мнемониста, который больше действовал «по наитию», чем посредством определенного метода. Несомненным читателем-наблюдателем был профессор С. А. Венгеров, разглядевший, что в пушкинской рукописи следовало читать «село Горюхино» вместо «Горохино», как печаталось в ряде изданий. Читателем-наблюдателем был академик О.Ю. Шмидт, как бы мимоходом замечавший ошибки в книгах, которые он читал. («Я невольно остаюсь редактором», — говорил Отто Юльевич, тем самым подчеркивая одну из сторон редакторского труда.) Таким же читателем-наблюдателем был крепко запомнившийся Паустовскому корректор одесской газеты «Моряк», бывший редактор сытинской газеты «Русское слово» Ф.И. Благов, который правильно расставил знаки препинания в рассказе Андрея Соболя и превратил раздерганный, спутанный текст в прозрачную, литую прозу.
Читать дальше