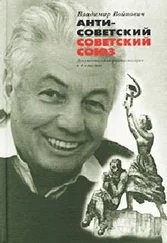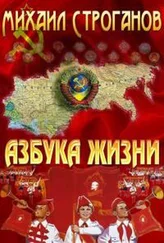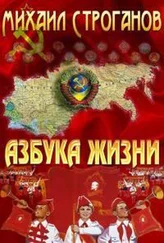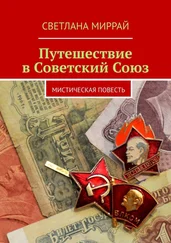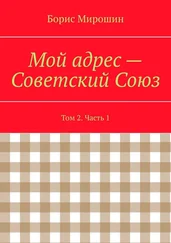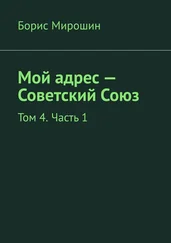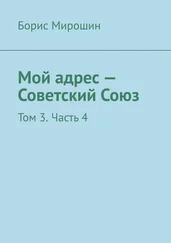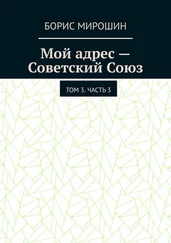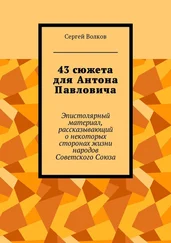Солдатской службы срок окончился уже,
Но с плеч шинель я все же не снимаю:
Стою среди хлебов на узенькой меже —
На верность полю присягаю!
Хлеба — налево, хлеба — направо,
Хлеба на счастье, хлеба на славу!
Бескрайних, спелых нив
Здесь ласковый разлив,
Здесь солнечных хлебов моих держава.
Гимном жизни и счастья врывался в наши сердца "Цирк" знаменитого киномюзикла Александрова. Сначала с белых полотнищ экрана, а затем из мерцающих кинескопов черно-белых телевизоров. Даже в начале 1970-х "Цирк" был большим, чем талантливо снятое фееричное кино.
Похожий на добрую русскую сказку, сотканную из волшебства и силы духа, коварства и любви, неподкупной дружбы и счастья жить на родной земле, "Цирк" убеждал гордиться тем, что ты живешь в самой справедливой стране на Земле — Советском Союзе. Что наше, советское, всегда совершеннее и лучше "заграничных аналогов", и все "униженные и угнетенные" люди могут найти здесь огромную дружную семью, исчислимую миллионами!
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек…
Несмотря на то что фильму было уже изрядно много лет, он оставался по-прежнему любим всем поколениям советских телезрителей. Его действительно пересматривали десятки, а может, и сотни раз, а для кого-то он стал не просто знаменем советской эпохи, а частью семейной истории. Потому что именно "Цирк" считался у наших бабушек и дедушек, пап и мам лучшим фильмом для свиданий, а после "культпохода в кино" было так легко и естественно объясниться в любви и сделать предложение "создать советскую семью".
Еще одним откровением о "цирке и циркачах" для детворы стал замечательный фильм "Три толстяка" (1966 год) по одноименной книге Юрия Олеши.
По большому счету для тогдашних детей этот фильм, а затем и книга (именно в такой последовательности, хотя роман для детей был опубликован много раньше, в 1928 году) становятся подлинными учебниками жизни. Быть справедливым, сильным, если потребуется — рискованным и дерзким, служить людям, отстаивать справедливость…
С "младых ногтей" мы знали, что даже маленькая группа сильных и смелых, умных и благородных может перевернуть мир. Достаточно только встретиться оружейнику Просперо с гимнастом Тибулом, доктору Гаспару поменять куклу на гимнастку Суок, чтобы им вместе внушить людям веру в самих себя! И когда нам было больно или обидно, мы держались изо всех сил, чтобы не заплакать, повторяя заветное книжное правило: "Люди, представляющие в цирке, не любят слез. Они слишком часто рискуют своей жизнью…"
Как же хотелось тогда нам, детям, испытать и проверить себя в настоящей борьбе, наказать зло своими руками, чтобы у сказки был счастливый конец для всех достойных людей!
В советском цирке, скрытно от посторонних глаз за яркими софитами и блестками мишуры, действительно боролись две яростные силы прошлого и будущего, своего и чужого, глубинного и наносного. Бессмысленного, но полного трюков и спецэффектов шоу, призванного развлекать и ужасать зевак и наполненного духом гуманизма театрализованного представления, пробуждающего в душах восхищение, гордость и сострадание.
Один цирк был перенесен в дореволюционную Россию под западную копирку, жестокости и бездушию которого было посвящено множество горьких строк русских писателей. Чего стоит созданный на реальной истории "Гуттаперчевый мальчик" (1883 год) Григоровича! Второй цирк, солнечный и светлый, родился из ярмарочных представлений, из святочных и масленичных народных гуляний, из потешных карнавалов Петра I, из театрализованных феерий, сопровождающих великие праздники по всей необъятной России!
Не потому ли этот водораздел так остро прошел и проявился именно в клоунаде, искусстве смешить и забавлять людей? Не случайно же говорили: "Посмотри на клоуна и узнаешь, чем дышит вся цирковая труппа".
Шут был вор: он воровал минуты —
Грустные минуты, тут и там, —
Грим, парик, другие атрибуты
Этот шут дарил другим шутам.
Ну а он, как будто в воду канув,
Вдруг при свете, нагло, в две руки
Крал тоску из внутренних карманов
Наших душ, одетых в пиджаки.
Мы потом смеялись обалдело,
Хлопали, ладони раздробя.
Он смешного ничего не делал —
Горе наше брал он на себя…
В советские годы, ввиду отсутствия иных представлений, цирк привлекал к себе все зрительское внимание, изголодавшееся "по ярким краскам и буйному действу". Тогда цирк никого не оставлял равнодушным: его любили или не переносили на дух, им восхищались или пренебрежительно относили к "низкому жанру", именовали искусством или же уничижительно называли зрелищем.
Читать дальше
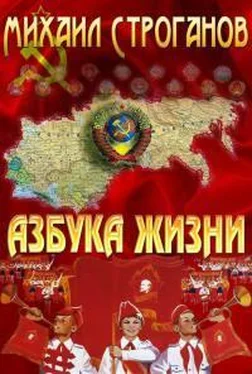
![Сергей Кремлев - Великий и оболганный Советский Союз [22 антимифа о Советской цивилизации]](/books/67304/sergej-kremlev-velikij-i-obolgannyj-sovetskij-soyuz-thumb.webp)