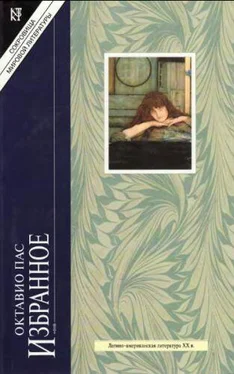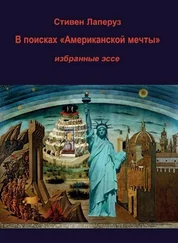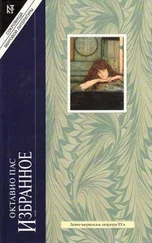Между двумя этими полюсами — безгрешности и самосознания, одиночества и сопричастности — движется вся поэзия. Лишась чистоты, поскольку рождены в обществе, сделавшем само наше естество искусственным и отнявшем у нас человеческую суть, чтобы превратить в рыночный товар, мы сегодня понапрасну ищем утраченного человека — человека безгрешного. Все сколько-нибудь достойное называться культурой с конца XVIII века преследует эту цель или хотя бы мечту о ней. Неспособные отчетливо выразить в стихах эту двойственность безгрешности и самосознания (в основе ее — непримиримые противоречия истории), мы подменяем ясность внешней, чисто словесной строгостью или, напротив, лепетом бессознательного. Однобокое внимание к бессознательному низводит стихи до психологического документа, однобокое же напряжение мысли, чаще всего пустой и беспочвенной, их просто убивает. Перед нами то ли академический доклад, то ли извержение чувства. А что говорить о политических манифестах, торжественных речах или газетных передовицах, нацепивших маску поэзии?
И все-таки поэзия остается силой, способной открыть человеку его сны и дать ему мужество прожить их при свете дня. Поэт воплощает сны человека и человечества, видя в каждом из нас нечто большее, чем деталь или инструмент, чем кровь, пролитая ради обогащения сильных или поддержки несправедливости, захватившей власть, большее чем товар и труд. Ночью мы спим и прозреваем собственный удел, открывая во сне, какими могли бы стать наяву. Эти сны — наша суть, и нам предстоит сделать их явью. Человечество — все, кто сегодня страдает и любит — тоже видит сон и мечтает пережить его при свете дня.
Воплощая эти сны, поэзия зовет к бунту, к пробуждению собственных снов. Мы должны стать не сновидцами, а самим сном наяву.
Чтобы разбудить сны человека, нет нужды отрекаться от сознания. Не забытья, а поиска себя требует нынешний день от поэта. Нужна высшая форма искренности — подлинность. В прошлом веке группа поэтов из замкнутого кружка романтиков — Новалис, Нерваль, Бодлер, Лотреамон — указала нам путь. Каждый из них — изгнанник поэзии, мучимый тоской по утраченному краю, где человек был заодно с миром и созданиями своих рук. И порой из этой тоски рождается предчувствие будущей земли, земли обретенной безгрешности. Первые поэты, говаривал Честертон, зовутся так не за новизну, а за близость к первоосновам. Они не стремятся к первенству, этой сирене ложного своеобразия, но находят истинное своеобразие в требовательной подлинности. Они и в предсмертном бреду не теряют ясности мысли и не клянут былую отвагу, обернувшуюся, смею сказать, завидной карой, пусть даже конец каждого и не назовешь счастливым — безумие, ранняя смерть, бегство от цивилизации. Это воистину проклятые поэты и вместе с тем живые герои и мифы нашего времени, выразившие собой — своей таинственной и непостижимой жизнью, своим бесценным и бездонным творчеством — саму ясность самосознания и саму безнадежность жажды. Наша тяга к этим, единственно возможным сегодня, учителям понятна: она воплощенная цель, сулящая объединить несводимые устремления человеческого духа — самосознание и безгрешность, опыт и выражение, действие и раскрывающее его смысл слово. Или, цитируя одного из них, — «Бракосочетание Рая и Ада». {92} 92 «Бракосочетание Рая и Ада» (1790) — программная поэма У. Блейка; на испанский ее переводил X. Вильяуррутия (1929).
Тамайо и мексиканская живопись [23] Перевела Вера Резник.
Как и все наше нынешнее искусство, и, возможно, больше других искусств, живопись — дитя Мексиканской революции. Мне уже приходилось говорить, что я считаю эту революцию обращением Мексики к своей собственной сути. Сорвав неестественную и сковывающую оболочку, освободившись от внешних исторических наслоений, страна сталкивается с самой собой. Мексика узревает самое себя, и становится ясно, что в рамках традиций колониального католицизма и республиканского либерализма она своих проблем решить не может. Революция в той же мере возвращение к истокам, в какой и попытка вписаться в общую традицию. Нелишне заметить, что я употребляю слово «традиция» в смысле программы или какого-то общего замысла, с помощью которого нация находит свое место в современном мире. С одной стороны, революция — это открытие исконного исторического слоя, с другой — способ сделать страну современной и прыжком — хотя это как раз и не удалось нашим либералам — попытаться преодолеть то, что именуется «историческим отставанием». Так вот, быть современной нацией не означает внедрить соответствующую технику производства, это означает вписаться в мировую традицию. Или же изобрести что-то новое, по-новому посмотреть на человека и на историю. Всем нам известно, что поиск традиции, которая могла бы сменить прежнюю, ту, что формировала ранее облик нашей страны, завершился непрочным соглашением, которое в силе и поныне. И у мексиканской живописи та же двойственная судьба. С самых первых шагов взоры художников обращаются к Мексике, и с самых первых шагов художники ощущают потребность сочетать национальный дух с духом современности вообще. Все позднейшие заблуждения как эстетического, так и нравственного порядка суть недоработки Мексиканской революции, которая, если и была открытием нашего национального характера, все же не увидела мир в целом и не связала наше открытие с мировой традицией.
Читать дальше