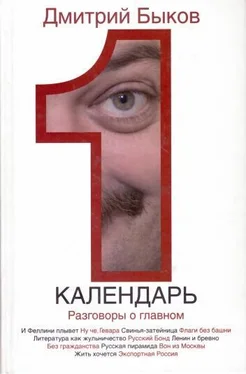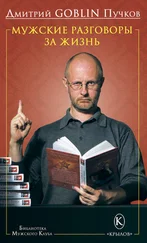«Почему?» — спросите вы. Да потому, что мерзкие герои де Сада любят своих жертв — хотя бы как объект собственного уродливого наслаждения. А вот тот, кто упивается гнусностью под предлогом борьбы с нею, не любит никого, кроме себя любимого. И это, как хотите, непростительнее всего. Утешает только то, что добродетель — вещь хитрая. Стилистическое мастерство, выразительность и обычный здравый смысл в ужасе бегут от таких моралистов, оставляя их на посмешище публике во всей бесспорной бездарности. В народе это называется «Бог шельму метит», а в искусстве я предложил бы назвать это законом де Сада. Он заслужил.
2 июня
Родился Константин Победоносцев (1827)
2 июня исполнится 180 лет Константину Петровичу Победоносцеву, столетие смерти которого, пришедшееся на 10 марта сего года, уже было встречено рядом апологетических сочинений. Даже и в разгар девяностых, отменивших и перетасовавших все и вся, трудно было представить, что мы доживем до реабилитации этого деятеля, — однако по части интеллектуальных неожиданностей наше время даст фору и девяностым.
Победоносцев нагляден, характерен, линеен, не допускает двух толкований, не предполагает взаимоисключающих прочтений и сам про себя все подробно разъяснил. Перечитывание «Московского сборника» (1896), главного свода его публицистики, — тяжкий труд. Ужасна эта ползучая, вязкая речь, медоточивая сладость апологетики и липкая грязь непрямых, обильных обиняками обвинений; такой синтаксис, такая интонация хороши для судебной казуистики, для неистощимого плетения словес в департаменте или судебном заседании — каждая фраза обвивается и душит, но с пафосом, с сознанием ответственности и выполненного долга, отсюда и его фирменные постпозитивные определения — душа народная, необходимость государственная… Душная фигура, из самых гнилостных в российской истории.
На что любил его Иван Сергеевич Аксаков — столп славянофильства, истинный сын своего батюшки, — а и то замечал, что, случись Победоносцеву жить в эпоху раннего христианства, он бы запретил Вселенские соборы. Многие утверждают, что в числе друзей Победоносцева был сам Достоевский, что именно Победоносцев ввел гения в царскую семью и всячески поддерживал морально среди взбаламученного моря нигилизма; но Достоевский, дорогие друзья, был прежде всего писатель, а писатели и во дворец ходят главным образом ради литературных соображений. Набираются, так сказать, фактов. Достоевскому интересно было взять пробу и в этом грунте, и Победоносцев ему безусловно пригодился, но не для вхождения в семью царскую и даже не для бесед задушевных. Победоносцев сгодился для образа Великого Инквизитора, в котором не узнать его трудно: бескровное лицо, седые густые брови — для современников параллель была очевидна, вспомним хоть изображение Победоносцева кисти Репина (и только сам он умудрился себя не узнать, заметив: «Мало что читал столь сильное», — но тут же по вечной цензорской привычке поинтересовавшись, где же последует опровержение на ересь и будет ли в финале соблюден баланс). Поразительную вещь написал недавно мой любимый театральный обозреватель Александр Соколянский применительно к спектаклю Гинкаса «Нелепая поэмка»: «Правда инквизитора не может опровергнуть правду Христову, но остается правдой». Господи, через какое разочарование надо продраться, чтобы так возненавидеть саму идею свободы?! Которая, конечно, дает отдельным извергам возможность мучить маленьких детей, зато исчезновение которой душит этих детей уже систематически и пачками!
В том-то и ужас, что у нас сегодня слишком много оснований для реабилитации Инквизитора — и соответственно Победоносцева. Поэтому именно сегодня стоит напомнить: главная идея Константина Петровича заключалась отнюдь не в том, чтобы «подморозить» Россию (каковая цитата из него имеет сегодня наиболее широкое хождение), а в том, чтобы ее подмораживал лично он и никто другой. Зато это отлично почувствовал Маяковский, изображая в «Бане» своего Победоносикова — обер-прокурора новейшего образца.
Стержневая и любимая мысль Константина Петровича — патологическое недоверие к народу, всемерное оттеснение его от рычагов государственного управления, искусственно поддерживаемое невежество. И не стыдно же сегодня отдельным его апологетам называть Победоносцева просветителем, насадителем церковно-приходских школ, столпом всеобщей грамотности! Стоит напомнить, чему учили в его школах, количество которых (а их было в разы больше, чем земских) вполне компенсировалось удручающим качеством преподавания. Между тем в статье одного из русских церковных иерархов к столетию смерти Победоносцева находим теплые слова: учащимся не давали достаточных знаний для продолжения образования — и слава Богу, потому что тем менее было в России полуобразованных людей. А ведь от полуобразованцев-то и случаются главные наши беды вроде революций! Человека надо научить грамоте, а большее уже опасно: терпеть не станет, работать заленится…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу