Инсценировка сентиментального рождественского рассказа Диккенса вполне ладила с условным оформлением. Намеки на обстановку, картонные игрушки, изготовляемые в мастерской, где происходит значительная часть действия, серый холст — как одеяние сцены во всех картинах, — все, что требовалось тут.
Надо заметить, что Чехов играл не как гастролер в окружении непосредственного «антуража». Нет, исполнители всех ролей были на высоте. Спектакль был просто знаменит своим «концертным» ансамблем. Да и могло ли быть иначе в тот период, когда плеяда истинных дарований, молодые артисты, воспитанные в единой системе понимания искусства, соединились под руководством своего гениального учителя?.. Сколько раз в те годы и впоследствии — в мемуарах и исследованиях по истории театра перечислялись участники спектакля, описывались подробности игры и приемы постановки!.. Но моя тема сегодня — актер М. Чехов.
Михаил Александрович играл Калеба. Это — старик неудачник (о неудачниках в трактовке М. А. Чехова нам еще придется говорить), отец слепой дочери, мастер на кустарном производстве игрушек; его безжалостно эксплуатирует хозяин (хозяина в тот вечер играл Е. Б. Вахтангов). Трудность этой роли в ее прямолинейности: сентиментальность задана автором безоговорочно и самыми простыми средствами. Диккенс поставил героя своего в положение, когда не быть сентиментальным нельзя. Не только грустные подробности всей жизни, всего существования Калеба суть поводы для слез и персонажа, и зрителей. Его дополнительная «нагрузка» — желание поддерживать у любимой слепой дочери иллюзию, будто все вокруг вовсе неплохо, будто дела идут к лучшему, — вот где ключ к образу старика. Вот что выделяет Калеба из сотен «униженных и оскорбленных» бедняков.
Именно так и трактовал роль Чехов. Он рано научился изображать пожилых людей. И не только внешней «острой характерностью» угощал наш артист зрителей. Разумеется, повадки и жесты, походка и мимика тридцатилетнего артиста были вполне достоверны в изображении старости. Актер, которому через пять лет предстояло сыграть мальчишку Хлестакова, двигался по сцене в «Сверчке» затрудненной походкой шестидесятилетнего человека. А потом был еще Мальволио в «Двенадцатой ночи», о котором мы расскажем ниже: у Чехова мажордом графини оказался просто дряхлым. А потом еще и Муромский из «Дела» Сухово-Кобылина, сенатор Аблеухов, в чьем образе артист в соответствии с замыслом автора А. Белого изобразил даже внешние приметы злобного старца Победоносцева…
Да, Михаил Александрович умел и любил играть стариков. А про диккенсовского Калеба надо сказать, что исполнитель обратил его из однопланового чувствительного персонажа английского писателя в образ, близкий к героям Достоевского. Настаиваю на этом сближении, ибо оно не единично в творчестве М. А. Чехова, о чем также говорю дальше…
Я уже сказал: отец несчастной слепой девушки не только должен переносить огорчения свои втайне. Ему надлежит еще делать вид, что никаких горестей нет! Невозможность для дочери увидеть окружающий ее мир помогает Калебу поддерживать в девушке иллюзию. Но мы-то, зрители, мы видим этот контраст между истиной и хрупким созданием отцовской фантазии: каждую минуту может рухнуть правдоподобие родительской версии, и слепая узнает, что происходит, что есть на самом деле, что было раньше!
Конечно, такая ситуация крайне выигрышна для исполнителя роли Калеба. Но иметь выигрышную роль далеко не значит, что эта роль хорошо сыграна. А Чехов блистательно играл несчастного отца. Начать с того, что в этом образе как нельзя лучше применены были внешние данные артиста. А какие у Михаила Александровича были данные? Самые неутешительные: малый рост, слабый и хриплый голос, узкие плечи, обыденное лицо среднерусского типа— нос «башмачком» и широкие, обширные для его возраста щеки, неяркие серые глаза… Впрочем, глаза-то заставляли сразу же приковать внимание к их обладателю. Выразительность взора была у нашего артиста удивительной, — впрочем, что же тут удивительного, если у великого артиста, душевный мир которого столь богат, очи умеют даже гипнотизировать публику!.. А посмотрев в глаза актера Чехова, зритель уже иначе прочитывал всю его «несценическую» фигуру. Оказывалось даже, что так значительнее, убедительнее, глубже можно играть трагические роли, когда тебе помогают — да, помогают, а не мешают — слабая фигура и трогательно бессильный голос!..
Читать дальше


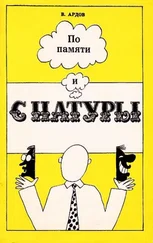






![Виктор Ардов - Терем-теремок [Юмористические рассказы]](/books/405146/viktor-ardov-terem-thumb.webp)
![Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]](/books/437203/viktor-melamed-mashineriya-portreta-opyt-zritelya-p-thumb.webp)
