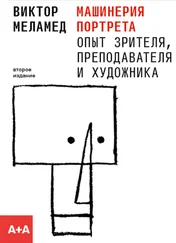Да, чучельника не пытками, и не плетьми, и не окриками, а проповедями пастора, поучительными примерами из жизни родителей и соседей, учителей в сельской школе приохотили к этой уже бессознательной вежливости дрессированного животного. (Условный рефлекс!) Вежливость, словно лак, отполировала со всех сторон отекшее лицо старика, согнула его спину, сделала такими безвольными и испуганными — да, да, именно, именно испуганными — его руки: они сами все время складываются на животе как символ робости и покорности. Но под налетом полировки, сообщенной цивилизацией, невозможно скрыть тоску и горе пожилого человека. О чем он тоскует? В чем его горе? Мы не знаем в точности: чересчур мало времени проводит с нами старый чучельник. Но скорее всего источник горя все тот же: бедному человеку мало помогают и его собственная цивилизованность, и внешняя вежливость хозяев жизни, которые забрали себе все на свете, а трудовому люду не оставили даже кусочка солнца на небе, лесной полянки в лесистой стране, радости общения с природой, возможности быть самим собою, а не придатком к конторе, к фабрике, к лесосеке во время тяжелого и плохо оплачиваемого труда. В норвежском захолустье и ремесла плохо кормят мастеров. Кто знает — умерла ли от недоедания, а не то от туберкулеза дочь этого чучельника, сбежала ли в свое время жена, не выдержавшая нищеты и томительной скуки маленького городишка? Мечтал ли он сам в молодости быть Бремом, или лейтенантом Гланом, или Амундсеном (конечно, речь идет о судьбах этих героев, а не об их именах, неизвестных старику)?.. Кто знает…
Только автор «Голода», такой внимательный к чудакам, к людям, надломленным жизнью, мог бы поведать нам обо всем. Но великому норвежцу этот старик нужен на пять минут, как эпизод в жизни его любимца — философа Карено. И потому так скупо автор рисует нам чучельника. Мы даже не знаем его имени… Но в исполнении Лужского горе (вернее даже, привычка к горю) звучало во всем облике чучельного мастера, окрашивало его голос и взгляд, манеры и жесты… Явственные приметы застарелых бед и новых неудач зримо присутствуют все время, пока старик находится на 1сцене. И вот, когда всмотришься в его печальные черты, лучше понимаешь, почему Гамсун делается резким, подчас даже крикливым, как только заведет речь о страшных, утомительных пустяках буржуазной цивилизации, которые связали людей по рукам и ногам, ослепили их, оглушили, отторгли от природы и естественных человеческих свойств, сделали трусливыми и робкими…
Мне кажется, что поведение на сцене Лужского — чучельника куда убедительнее выражает протест автора против всей мерзости окружающей его среды, чем перепев Ницше в сочинениях «бунтаря» Карено. В самом деле, если только внимательно следить за поведением чучельного мастера, вы через мгновение убеждаетесь, что перед вами--чудак. Очень важное и нужное понятие — чудак. Человек не совсем такой, как все. Чем-то увлеченный. Чему- то отдающий непомерно много времени и внимания.
О чудаках написано и будет написано очень много. И это понятно: на свете столько чудаков, что высказывалась мысль: все люди чудаки.
Но для нас существенно вот что: как, в какой тональности Лужский играет своего чудака? Ведь чудака можно изображать в плане беззаботной юморески. Можно с удивлением сообщать: каких только оригиналов не существует на свете!.. Можно говорить о том с раздражением или с эрудицией клинициста, давно уже разобравшего по рубрикам всех и всяческих чудаков.
А можно играть чудака с сочувствием, в его странностях видя и причины, приведшие к чудачеству, и следствия этого чудачества, то есть искривления нормальной человеческой психологии. Лужский шел по этому пути. И только такой путь соответствовал замыслу автора.
Становилось немного страшно: сдержанно и учтиво чучельный мастер говорил о своем ремесле как о страсти, поглотившей его до конца. А это явственно звучало в пятнадцати репликах первого выхода.
Вот фраза:
— Такая птица может затмить общество. Она стойт, как человек, и думает.
Лужский давал понять зрителям, что мастер пришел к этой замене человеческого общества чучелами в результате длинной и наполненной неудачами жизни. Что же нам сообщало об этом? Ничто и все. Весь «подтекст» пятнадцати реплик, многочисленных извинений и поклонов, печальной и въевшейся в старика вежливости. За этим звучало: лучше уж общаться и беседовать с чучелами, чем с моими согражданами, которые давят бедных людей в беспощадной и неустанной погоне за деньгами, положением, славой, женщинами и иными благами, котирующимися на нашей планете…
Читать дальше

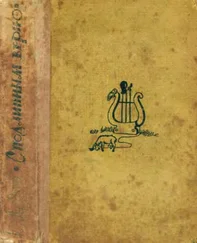
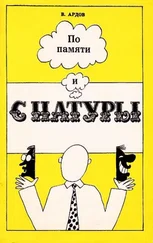


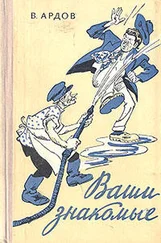


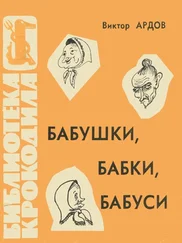
![Виктор Ардов - Терем-теремок [Юмористические рассказы]](/books/405146/viktor-ardov-terem-thumb.webp)
![Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]](/books/437203/viktor-melamed-mashineriya-portreta-opyt-zritelya-p-thumb.webp)