— Ну, сам посуди, друг мой, в каком виде предстанем мы перед твоей мамой, если ты поведешь себя недостойным образом, — например, испачкаешь или порвешь платье, примешь участие в драке и так далее… Очень тебя прошу: подумай и о моей ответственности за твое поведение…
Если бы не бесконечная доброта Михаила Афанасьевича и его лучистый юмор, такие нотации производили бы впечатление нудных. Но Булгаков изредка косит и на меня большим серым глазом — оцениваю ли я смысл его рацей? — и к мальчику наклоняется так доверительно, с такой деликатностью и любовью, что трудно сдерживать смех… А смеяться нельзя: ведь это педагогическая акция!..
Сережа внятно заявляет, что он вполне понимает свою ответственность перед дядей Мишей и мамой. Мальчики удаляются. А мы с Михаилом Афанасьевичем размещаемся в моем микрокабинете. И тут начинается разговор обо всем, что составляло «злобу дня» в литературе, искусстве, политике. Беседа течет плавно, но быстро. Обсуждаем новости, главным образом литературного порядка. Я больше знаю, чем мой гость, ибо бываю в Союзе писателей, в Доме Герцена. Булгаков с интересом выслушивает мою информацию. Он несколько преувеличивает свою реакцию — все в той же манере иронически пышной вежливости. То идело он восклицает:
— Что вы говорите?! Кто бы мог подумать?! Вообразите только!
Но не только интонации, а и взгляд гостя показывает, что он полагает многое из того, о чем я повествую, смешным, мелким, нелепым, осуждает конъюнктурные сочинения и спектакли. Иными словами, он буквально убивает различные попытки торопливо снискать популярность, угодить невзыскательному вкусу…
Беседа принимает характер более активный. У Михаила Афанасьевича непременный запас забавных фактов, словечек, наблюдений… И меня обычно поражали не только самые сообщения, а их отбор, сделанный Михаилом Афанасьевичем оригинально и неожиданно. Помню, например, один рассказ Булгакова — устный.
Когда его пьеса «Дни Турбиных» с огромным успехом шла в Художественном театре, целый легион попрошаек «стрелков» — так назывался этот род аферистов — одолевал Михаила Афанасьевича, считая, что он стал богачом и что ему ничего не стоит выбросить даже сотни рублей на подачки. «Стрелки» и писали Булгакову, и навещали его на квартире, и ловили на улице. А один такой тип позвонил по телефону в пять утра. Именно время поразило нашего друга. Днем-то звонили часто…
«А тут, — рассказывал Михаил Афанасьевич, — во время самого сладкого утреннего сна затрещал звонок. Я вскочил с постели, босиком добежал до аппарата, взял трубку. Хриплый мужской голос заговорил:
— Товарищ Булгаков, мы с вами незнакомы, но, надеюсь, это не помешает вам оказать услугу… Вообразите: только что, выходя из пивной, я разбил свои очки в золотой оправе! Я буквально ослеп! При моей близорукости… Думаю, для вас не составит большого урона дать мне сто рублей на новые окуляры?..
Я в ярости бросил трубку на рычаг, — продолжал Булгаков. — Вернулся в постель, но не успел еще заснуть, как новый звонок. Вторично встаю, беру трубку. Тот же голос вопрошает:
— Ну, если не с золотой оправой, то на простые-то очки можете?..»
Помню еще шутливое рассуждение Булгакова. Он размышлял на тему об отчислениях с кассового сбора, которые полагаются автору представляемой пьесы. Заметим, сам Булгаков существовал именно на эти авторские проценты. А говорил он вог так:
— Да… драматурги как-то очень исхитрились: экое дело— получают отчисления от каждого спектакля своих пьес!.. Больше никому ничего подобного не платят. Возьмите вы, например, архитектора Рерберга. По его проекту воздвигнуто здание Центрального телеграфа на Тверской… Даже мраморная доска удостоверяет, что построил сей дом Иван Иванович Рерберг… Однако же Иван Иванович не получает отчислений с платы за телеграммы, которые подаются в его доме!..
Удивительно обаятелен бывал Михаил Афанасьевич, если собирались компания друзей — у него или в другом доме. Его необыкновенно предупредительная вежливость сочеталась с необыкновенной же скромностью… Он словно утрачивалтретье измерение и некоторое время пребывал где-то на самом заднем плане. Весь шум, сопровождавший сбор гостей, он пережидал как бы в тени. Никогда не перебивал рассказчика, не стремился стать «душой общества». Но непременно возникал такой момент, когда Михаила Афанасьевича просили что-нибудь рассказать. Он не сразу соглашался… Это не было похоже на то, как «кобенится» домашнее дарование, перед тем как обнаружить свои возможности перед захмелевшими гостями. Булгаков был поистине застенчив. Но, преодолев застенчивость, он прочно овладевал вниманием общества. Я знал много людей, которые шли куда-нибудь специально послушать Михаила Афанасьевича. Особенно часто он читал свои новые произведения, которые увидели свет уже после его кончины.
Читать дальше


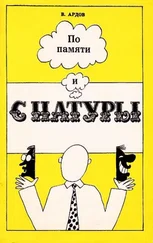






![Виктор Ардов - Терем-теремок [Юмористические рассказы]](/books/405146/viktor-ardov-terem-thumb.webp)
![Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]](/books/437203/viktor-melamed-mashineriya-portreta-opyt-zritelya-p-thumb.webp)
