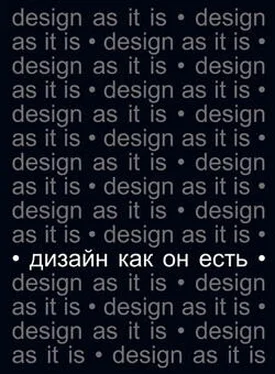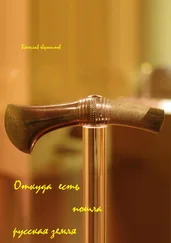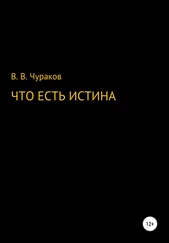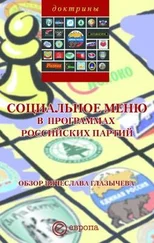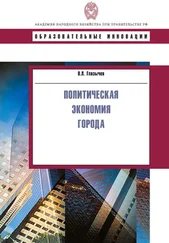Жесткая вульгарность Лас-Вегаса не препятствует тому, чтобы отдавать себе отчет в том, что сотни тысяч людей единовременно наслаждаются там полнотой существования и что дизайн-программы этого города-фантома настроены абсолютно точно на волну массового ожидания. Заметно и другое: именно эта, жесткая версия заметно проникает в «серьезную» городскую среду. Сначала это был всего лишь гигантский золоченый «фунтик» над кровлей токийского центра развлечений. Затем Фрэнк Гери сооружает «диснейленд» Музея Гуггенхейма в Бильбао и встраивает некую золоченую «штуку» в интерьер нового банка у Бранденбургских ворот в Берлине. Теперь уже в торговом центре на восточном берегу Темзы утверждена бронзовая каравелла, перекликающаяся с подлинной Катти-Сарк неподалеку, колесо обозрения, сооруженное к Миллениуму, высится над рекой, превращая колокольню Биг-Бен в старую игрушку, а сэр Норман Фостер, не изменяя технологичности хай-тека, возводит в центре лондонского Сити вызывающий «огурец» офиса. Проект – победитель конкурса на новое здание Мариинского театра в Петербурге родом из того же семейства, и есть все больше оснований подозревать, что жесткое травестирование Диснейленда утверждается в правах как норма, знаменуя собой финал архитектуры и торжество тотальной дизайн-политики.
Последняя треть ушедшего века характеризуется тем, что, резко ускорив процесс инноваций, ключевые производители массовой продукции в то же время используют механизм контролируемого торможения выпуска новинок на рынок, что окончательно разорвало исторические связи дизайна с прикладным искусством, в котором каждая вещь трактовалась как абсолютная ценность. Крупнейшие корпорации нарабатывают целые пакеты технических инноваций и сопровождающих их дизайнерских разработок на десять лет вперед, пуская их в ход в точном соответствии с программированным искусственным старением товаров массового спроса. Понятно, что уже по соображениям коммерческой тайны такая практика еще жестче отсекает стафф-дизайнеров компании от тех профессионалов, кто аналогичным образом работает в других компаниях. Строго говоря, несмотря на то, что международный союз дизайнерских объединений (ICSID) здравствует, говорить о едином «цехе» уже затруднительно, так как реальный контакт осуществляется только через выставки вроде «100 % Дизайн» и публикации. Следует добавить, что последние тридцать лет работа дизайнеров (равно как архитекторов) и осуществляется и осмысляется на фоне общих и потому неизбежно вульгаризованных перепевов философии постмодернизма во всем, что касается равенства любого «текста» с любым другим, полной относительности любой гуманитарной (значит и эстетической) нормы.
Иначе обстоит дело с уже отдаленным периодом, охватывающим 1910–1970 годы. В самом начале этого периода обнаруживаем несколько причудливое слияние функционально ориентированной ветви ар-нуво, младенческой массовой индустрии и быстро взрослевшей индустрии массовой моды в одежде, начиная с Коко Шанель. Вторая декада века принесла фантастический взрыв творческой энергии, не имевшей серьезных шансов на немедленное воплощение в материале в разоренной войной Европе.
Именно потому, что «прожективных» проектных работ никто не ждал на производстве, на некоторое время сложилась обстановка свободного формотворчества, которое естественно опиралась на угасавшие кубизм и супрематизм, наряду с увлечением социалистическими идеями. Впрочем, в США дело обстояло существенно иначе вплоть до Великого кризиса 1929 года, о чем в Европе нередко забывают, увлекшись собственными, весьма эффектными демонстрациями модернизма. Есть все основания усомниться в однозначности привычного выражения «двадцатые годы», поскольку за ним скрываются фактически две различные сущности. Так, обычно говоря о Парижской международной выставке декоративного и современного индустриального искусства 1925 года (в нашей литературе ее обычно именуют сокращенно – выставкой декоративного искусства), акцент делается лишь на двух композициях. Одна – это советский павильон Константина Мельникова, который вызвал сенсацию. Другая – павильон Esprit Nouveau Ле Корбюзье, у большинства тогда вызвавший недоумение. Однако основной акцент выставки был в действительности сделан на экспозициях мастеров ар-деко, где наряду с дюжиной первоклассных мастеров Франции были представлены отличные работы британской керамистки Клары Клифф или нью-йоркского дизайнера Дональда Диски, который был автором всей обширной системы декора знаменитого Радио-Сити.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу