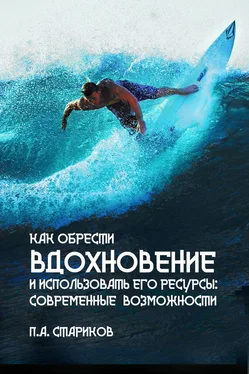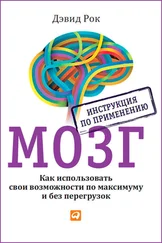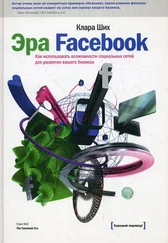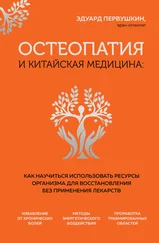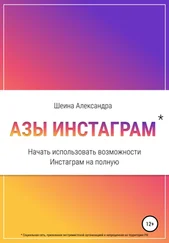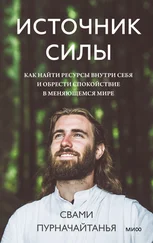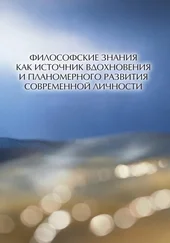С чем это связано? Прежде всего, давайте обратим внимание на существенные различия между так называемыми первичными и вторичными процессами. Это различение было сделано еще Зигмундом Фрейдом и остается как значимое для современных исследователей. Вторичные процессы – то, что человек осознает, планирует, контролирует. Это некая ограниченная версия реальности. Это ограниченные «карты мира», по которым обычно живут люди. Вторичные процессы ограничены самим типом социальной коммуникации, требующей однозначной интерпретации знаков.
Чтобы понять ограничения вторичных процессов, можно привести в пример сновидения. Смысл сновидений с трудом поддается нашему пониманию в силу самой своей природы. С точки зрения сознания, вторичного процесса, в мире сновидений все становится таким неоднозначным, запутанным, нерациональным. Если и есть в этом мире сновидческих грез какой-нибудь смысл, то воспринимается он только как отдаленные намеки, какие-то ассоциации, аналогии, скрытые метафоры, смешения. Зачем такая игра рациональному человеку, науке, стремящейся к ясности и очевидности?
Как уже говорилось, первым ввел понятие первичных процессов Зигмунд Фрейд, но он считал их более примитивными по сравнению с сознанием. Действительно, на языке первичных процессов говорят симптомы, болезни, иррациональные страхи, мучащие людей. Для Карла Юнга первичные процессы стали не только симптомами и аффектами бессознательного, но интегрирующим в системную целостность языком искусства, музыки, поэзии, живописи. Символы первичных процессов выражают то, что выходит за рамки ограниченного круга восприятий, позволяют передать невыразимую простыми знаковыми средствами мудрость целого. Поэтому можно сказать, что в первичных процессах заключается тайна творческой интеграции, способ ведания, развития жизни, ее наполненности бытием.
Известный системный аналитик Грегори Бейтсон, разрабатывая концепцию экологии человеческого разума, отмечал, что «простая целенаправленная рациональность, не поддержанная такими феноменами, как искусство, религия, сновидения и т. п., неизбежно патогенна и разрушает жизнь. Ее вирулентность возникает главным образом из того обстоятельства, что жизнь зависит от взаимосвязанных петель обуславливания, в то время как сознание может видеть только дуги таких петель, настолько короткие, насколько этого требует человеческая цель» [4, с. 177].
Сознание, с точки зрения Бейтсона, не имеющее поддержки бессознательного или первичного процесса, всегда должно тяготеть к ненависти, и не только потому, что уничтожить «того парня» весьма здравая мысль, но и по более глубоким причинам. Видя только дуги петель, индивидуум постоянно удивляется и неизбежно озлобляется, когда его тупоумные деяния возвращаются к нему как бедствия.
У сердца, или бессознательного, есть собственные рассуждения, о которых рассудок не имеет ни малейшего понятия. Эти алгоритмы сердца, с точки зрения Бейтсона, закодированы и организованы способом, тотально отличным от алгоритмов языка, такой доступ открывается (например, в сновидениях, искусстве, поэзии, религии).
Искусство учит воспринимать мир по-настоящему, ближе к реальности первичных процессов, ближе к реальности мира. То есть чувствовать то, что обычно скрывается за ограничениями знаков и стереотипов, оно учит существовать на границе первичных и вторичных процессов, синтезируя их в непостижимую целостность. Можно сказать, что искусство – язык сложности и экспрессии, того, что можно создать только на вершине своих возможностей.
Но бесполезно подходить к произведениям искусства с обычным, мирским способом восприятия. Этот обыденный способ видения мира, как его назвал Артур Дейкман – «объектный режим», не позволяет почувствовать целостность и сложность, скрытую гармонию связей и отношений. Хорошо об этом говорил российский философ Григорий Померанц. «То, что мы называем предметом, только узелок бесконечной сети, где все связано со всем и конец становится началом. Даже то, что физически легко обособить, – яблоко, например, – всего лишь миг в цепи отношений: яблони, почвы, солнца, ветра, сорвавшего плод…» [34, с. 215]. Люди смотрят и ничего не видят, кроме отдельных объектов, названий.
Такое, можно сказать, стереотипное видение мира функционально в том плане, что оно упрощает нам мир, экономит ресурсы восприятия человека, делает мир понятным и социально согласованным. В то же время оно как бы велит нам не смотреть глубоко и проникновенно, ничего не знать лишнего об этом мире, о других людях. В усиленном виде стереотипное восприятие – психология городского жителя, который перегружен информационными сигналами. Их так много, этих сигналов, что если уделять время каждому, то просто перегрузится психика. Здесь устанавливать контакт нужно только с отдельными важными людьми, отдельными знаками. Остальное не имеет особого значения. Но, к сожалению, получается так, что благодаря этой информационной перегруженности (стереотипизация мира – одна из форм психологической защиты, «бегства от сложности») мы отвыкаем смотреть глубоко, устанавливать контакт, прислушиваться к интуиции.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу