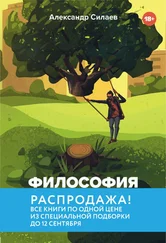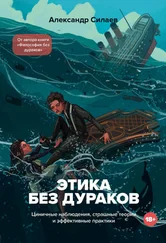На всякий случай, я больший специалист в этой теме – сам умнил почти до 30 лет. Потом отпустило.
Не смейтесь над англосаксонскими авторами, мол, они такие простые: обычно это просто взрослые и вежливые люди. Чтобы оценить, сравните с немецкой философией XIX века или французской XX. Докинз, Деннет, Дойч знают об этом мире больше важного и полезного, чем Делез и Деррида. Последние, по большому счету, факультативны, комментируют на полях, и еще вопрос, работает ли это вообще. У меня большие сомнения, что психоанализ Лакана хоть что-то лечит, а политические советы от Делеза или Фуко создавали бы что-то, кроме дополнительных рисков для цивилизации. Тем, кого завораживают идеи Фуко, я советовал бы ознакомиться с его мнением по конкретным вопросам – алжирскому, маоистскому, иранскому. Он даже ездил в Иран периода исламской революции, и происходящее ему понравилось.
А теперь сравните стиль: как изъясняются так называемые континентальные авторы по сравнению с тем, как это делают взрослые. Не зря Левиафан одолел-таки Бегемота, если говорить в терминах еще одного континентального мыслителя, философа и геополитика Дугина. Хотя он как раз очень простой. Но как автор очень континентальный – в худшем смысле этого слова, означающем, в частности, нелюбовь к науке и логике.
Сложность сложности рознь. Допустим, Куайн не самый простой для понимания, но там нет ощущения, что тебя, извините за выражение, разводят. Он занимается сложными проблемами и пишет так, как об этих проблемах пишется. Иными словами, он непрост, потому что проще нельзя. А Гегель сложен, потому что ему так нравится.
Возможно, это вызвано характером XIX столетия. Это было джентльменское время до восстания масс. В приличном обществе считалось мало приличным попросить кого-то «быть попроще». И вот среди уважающих себя господ есть вежливость, и там, в частности, есть презумпция: если кто-то умнит – видимо, так и надо, он имеет основания, он умный. Если что-то не понимаем – наши проблемы. Давайте на всякий случай окажем ему какое-нибудь уважение.
Это немного напоминает анекдот. Василий Иванович рассказывает Петьке, как он играл в карты в английском клубе. Все сидят, молча набирают карты. У меня двадцать одно, говорит сэр Джон. Прощу показать карты, сэр оскорбляется. «Мы, джентльмены, верим друг другу на слово». Вот тут-то, говорит Василий Иванович, мне карта и поперла. Увы, есть целые направления мысли – напоминающие Василия Ивановича, которому внезапно поперла карта.
Когда я был маленьким, то, бывало, заходил в комнату к дедушке. Он был инженером, часто ГИПом (главным инженером проекта), многие известные штуки в моем городе проектировались с его участием. Но обычно все знают архитектора и никто не знает ГИПа. Так вот, дедушка часто прихватывал халтуру на дом и что-то чертил вечерами. Допустим, схему электроснабжения какого-то здания. Я брал листочек бумажки и чертил что-то внешне похожее. Копировал какие-то условные значки, манеру исполнения. Мне казалось, мои каляки-маляки тоже значимы , ведь они похожи .
К чему речь? Примерно так же соотносится наука и немецкая классическая философия, полагавшая себя научной (или даже сверхнаучной, если так можно выразиться). То, что делал дедушка, – как бы наука, а мои каляки по соседству – как бы та самая философия, какой-нибудь Фихте. Ведь похоже. По некоторым словам, по серьезности, с какой этим занимаются. По сложности рисунка, черт возьми!
Развивать в XXI веке идеи, например, Гегеля – аналогично моим забавам младшего школьного возраста. Можно в десять лет нацепить шляпу и галстук – вполне себе классический немецкий философ. Попробуйте проследить за мыслью.
«Подобно тому, как рассудок обычно понимается как нечто отдельное от разума вообще, точно так же и диалектический разум обычно признается чем-то отдельным от положительного разума. Но в своей истине разум есть дух, который выше их обоих; он есть рассудочный разум или разумный рассудок. Он есть отрицательное, то, что составляет качество как диалектического разума, так и рассудка… Он отрицает простое, и тем самым он полагает определенное различие, за которое держится рассудок. Но вместе с тем он также и разлагает это различие, и тем самым он диалектичен. Однако он не задерживается на этом нулевом результате: он здесь вместе с тем выступает как положительный разум, и, таким образом, восстанавливает первоначальное простое, но как всеобщее, которое конкретно внутри себя. Под последнее не просто подводится то или другое данное особенное, а в вышеуказанном процессе определения и разлагании этого определения уже определилось вместе с тем и особенное. Это духовное движение, дающее себе в своей простоте свою определенность, а в последней – свое равенство с самим собою, это движение, представляющее собою, стало быть, имманентное развитие понятия, есть абсолютный метод познания и вместе с тем имманентная душа самого содержа- ния».
Читать дальше
![Александр Силаев Философия без дураков [Как логические ошибки становятся мировоззрением и как с этим бороться?] [litres] обложка книги](/books/393881/aleksandr-silaev-filosofiya-bez-durakov-kak-logiche-cover.webp)





![Мария Гудаваж - Доктор Пес [Как наши лучшие друзья становятся нашими врачами] [litres]](/books/388896/mariya-gudavazh-doktor-pes-kak-nashi-luchshie-druzya-s-thumb.webp)