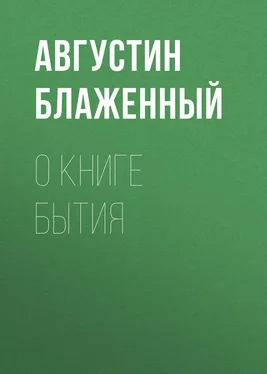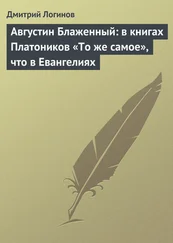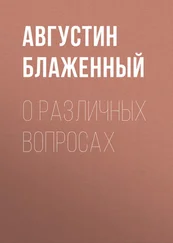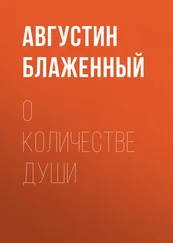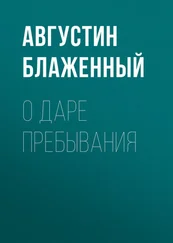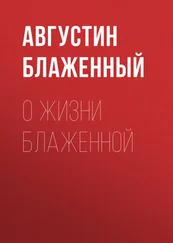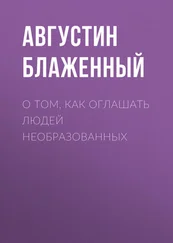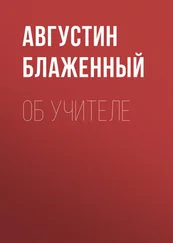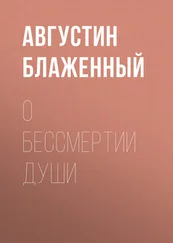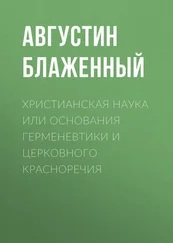А каким образом через тварь, созданную раньше времени, могло быть сказано до времени: «Да будет свет»– понять весьма трудно. Ясно, что это не было произнесено голосом, ибо сказанное вслух телесно. Хотя, конечно, Господь мог из несовершенства первичной телесной сущности образовать некий звук, но тогда первым творением был бы этот звук, а не свет. К тому же, для произнесения чего-либо вслух требуется время, а раз и время возникло прежде света, то к какому дню оно относилось? Ибо то был «день один»(Быт. 1:5), причем, по счету – день первый, в который был создан свет. Выходит, время и звук также были сотворены в «день один»? Но сказанное вслух предназначается тем, кто способен слышать, т. е. воспринимать и различать колебания воздуха. Что же, то невидимое и неустроенное имело слух? Трудно представить себе что-нибудь нелепее этого!
Итак, это было сказано духовно; но во времени ли, а значит и в движении, и в этом духовном движении отпечатленное вечным Отцом через совечного Сына в духовной твари, т. е. в упомянутом высшем небе, или вне времени, непостижимым образом начертанное Словом в ее мысли и разуме, и по этим словам низшее и темное несовершенство телесной природы пришло в движение, обрело форму и явился свет? Но весьма трудно понять, как это возможно, чтобы вневременное повеление, постигнутое (высшей) тварью через вневременное же созерцание истины в виде мысленно запечатленных Премудростью Божией идей, было сообщено (этой тварью) ниже, порождая временные движения во временных предметах, подлежащих образованию и управлению. Если же свет надобно понимать так, что ему принадлежит первенствующее место среди тварей, то он сам есть разумная жизнь, жизнь, которая растеклась бы над бесформенной массой, если бы не была обращена к Творцу. Когда же она обратилась к Нему и была просвещена Им, произошло то, о чем сказано: «И стал свет».
Но кто-нибудь обязательно спросит: так ли все и произошло вне времени, как вне времени было сказано, ибо к Слову, совечному Отцу, время неприложимо? Понятно, что подобное понимание недопустимо, поскольку в Писании после сотворения света и отделения его от тьмы ясно сказано: «И был вечер, и было утро: день один»(Быт. 1:5). Отсюда видно, что это действие Божие было совершено в течение дня, по окончании которого, под вечер, наступило то, что служит началом ночи, а по окончании ночи исполнился целый день, так что наступило утро уже следующего дня, в который Бог произвел следующее (Свое творение).
Но если слова: «Да будет свет»(Быт. 1:3) Бог изрек вне времени (мгновенно) в вечном разуме Своего Слова, то вызывает недоумение, почему свет сотворялся столь медленно, что это потребовало целый день. Или, возможно, свет также был сотворен мгновенно, но потребовалось время, чтобы отделить его от тьмы? Но и это странно, поскольку отделение света от тьмы явно было частью того действия, которым Бог создал свет: ведь никак не могло быть света, если он не был отделен от тьмы.
И еще: как долго могло совершаться наименование света и тьмы, когда «назвал Бог свет днем, а тьму ночью»(Быт. 1:5)? Ясно, что если бы это даже было сказано голосом, [2] Т. е. потребовало бы некоторого отрезка времени для произнесения вслух.
то вряд ли заняло бы больше времени, чем занимает у нас произнесение такого рода фразы; разве что кому-либо в голову взбредет столь безумная мысль, что, дескать, Бог столь велик, что вполне мог произносить эту фразу целый день. Притом не следует забывать, что Бог назвал день и ночь не вслух, голосом, а совечным Себе Словом, т. е. внутренними и вечными идеями непреложной Премудрости. В противном случае опять возникли бы вопросы: на каком языке это было произнесено и кому предназначалось сказанное, если не было еще ни одного телесного слушателя?
Возможно, следует предполагать, что хотя действие Божие совершилось и быстро, но свет, не сменяясь ночью, оставался до тех пор, пока не истекло время дня; то же случилось и с тьмою, т. е. с ночью, вплоть до наступления утра? Но если я стану это утверждать, то, боюсь, буду осмеян со стороны людей, знающих (а узнать это нетрудно), что когда у нас наступает ночь, солнце освещает те части мира, через которые, следуя с запада на восток, возвращается к нам, а потому в течение всех суток, т. е. полного оборота солнца, в одних местах бывает день, а в других – ночь. Не поместим же мы Бога в какую-то только одну часть мира, чтобы у Него был, скажем, только вечер, тогда как в других частях в то же время есть и утро, и день, и ночь! Ведь и у Екклесиаста сказано: «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит»(Еккл 1.5). Когда солнце проходит по южной части (небосклона), у нас бывает день, а когда переходит в северную часть, совершая свое круговращение, у нас наступает ночь. Не станем же мы, в самом деле, верить поэтическим басням, будто бы солнце ночью погружается в море, а утром, омывшись, выходит с другой стороны. Впрочем, и в этом случае ночь не была бы повсеместной, ибо солнце освещало бы пучины морские и там наступал бы день. Но понятно, что такое допущение нелепо. Впрочем, нелепо и все остальное, ибо когда совершались (рассматриваемые события), не было еще и самого солнца.
Читать дальше