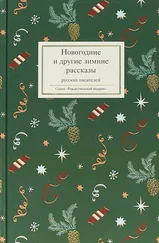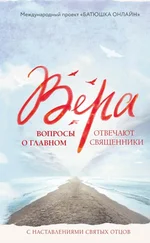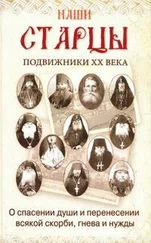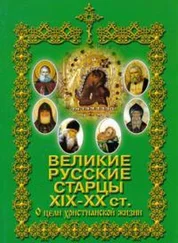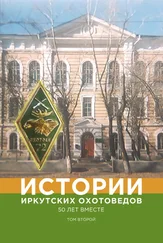Гонсевский и Михаил Салтыков снова начали уговаривать патриарха Ермогена: «Вели ратным людям, стоящим под Москвою, идти прочь, а если не послушаешь нас, то мы уморим тебя злой смертью». «Что вы мне угрожаете? — ответил мужественный страдалец. — Я боюсь только Единого Бога! Если вы уйдете из Московского государства, то я благословляю воинов отойти прочь; если нет, то благословляю против вас стоять и умереть за Православную Христианскую веру. Вы мне обещаете злую смерть, а я надеюсь чрез нее получить венец. Давно желаю я пострадать за правду».
После такой отповеди патриарха Гонсевский с товарищами свели святого Ермогена в Чудов монастырь и здесь «посадили его в темницу темную, под палатами», а Салтыков «начал делать ему тесноту».
Ополчение целовало крест под Москвой отстаивать Церковь Православную и землю Русскую, но оно, к великой скорби святого Ермогена, не выполнило своей задачи. Между земщиной и казачеством начались сильные разногласия, закончившиеся убийством вождя земского ополчения Прокопия Ляпунова (22 июня 1611 года). По справедливому выражению Карамзина, «Ляпунов пал на гроб своего Отечества». Для Русского государства по-видимому настали последние дни. Поляки взяли Смоленск, шведы — Новгород, в Пскове появился третий самозванец, какой-то Сидорка; от Москвы уцелели лишь находившиеся в руках поляков Кремль и Китай-город. Ополчение по смерти Прокопия Ляпунова расстроилось; многие из членов его покинули подмосковный стан, в котором хозяйничали казаки. Появился слух, что один из их предводителей, Иван Заруцкий, хочет возвести на московский престол «Воренка» — сына Марины Мнишек и Тушинскаго Вора. Чтобы предупредить возникновение новой самозванщины, святой Ермоген в августе 1611 года отправил из своего заточения в Нижний Новгород грамоту, видимо написанную с лихорадочной поспешностью: «Пишите в Казань к митрополиту Ефрему: пусть пошлет в полки к боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они стояли крепко за веру и не принимали Маринкина сына на царство — я не благословляю. Да в Вологду пишите к властям о том и к Рязанскому владыке: пусть пошлет в полки учительную грамоту к боярам, чтобы унимали грабеж, сохраняли братство и как обещались положить души свои за Дом Пречистой, так же и совершили. Да и во все города пишите, что сына Маринки отнюдь не надо на царство; везде говорить моим именем».
При этом патриарх выражал желание, чтобы с грамотами были посланы «бесстрашные люди», тайно посещавшие его в заключении: служилый человек Роман Пахомов и свияженин Родион Моисеев. Святитель знал, что людей, прибывших в казацкие таборы с такими грамотами, ждет смерть, и заранее благословил их на страдание за веру и родину: «Если при этом и пострадаете, и вас в том Бог простит и разрешит в сем веке и будущем».
Эта последняя грамота доблестного святителя-мученика сослужила великую службу многострадальной Русской земле: под ее сильным влиянием создалось новое нижегородское ополчение, освободившее Родину и умиротворившее ее. Но патриарх Ермоген не дожил до этого светлого и радостного дня. «Он сиял в темной келлии, как лучезарное светило своего Отечества, готовое угаснуть, но уже воспламенив в нем жизнь и ревность к великому делу». Верным сынам Отчизны, шедшим на ее избавление, святой Ермоген сопутствовал из своего заточения молитвою. Как благовонный фимиам, из глухого подземелья неслась эта молитва богомольца-патриарха к Престолу Божию; об одном он просил Господа, Его Пречистую Матерь и великих русских чудотворцев — да отнесет Милосердный Судия карающую десницу Свою от прогневавшей Его Русской земли и не попустит ей и вере Православной погибнуть в конец от врагов. При этом слезы как «речные быстрины» текли по ланитам «светолепного старца».
Когда слух о движении нижегородцев достиг Москвы, бояре — польские доброхоты — потребовали, чтобы патриарх послал в Нижний грамоты с запрещением ратным людям идти под Москву.
Он же, великий государь-исповедник, сказал им: «Да будут благословенны те, которые идут на очищение Московского государства, а вы, окаянные московские изменники, будьте прокляты».
После этого «злые и немилостивые приставники изменничьи начали морить великого узника голодом. Они «бросали в темницу страдальцу Христову нечеловеческую пищу: на неделю сноп овса и мало воды». 17 февраля 1612 года святой Ермоген окончил свою страдальческую жизнь: он предал честную душу в руки Божии и был погребен в Москве, в монастыре Чуда Архистратига Михаила.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
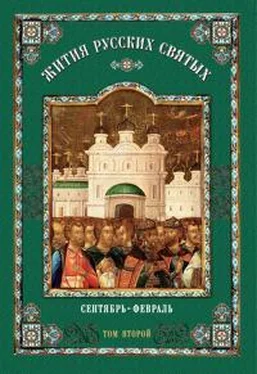



![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)