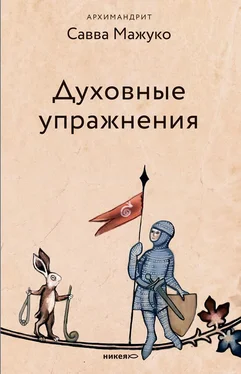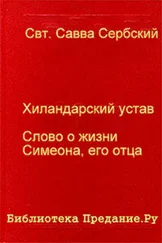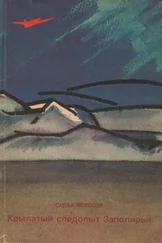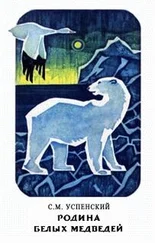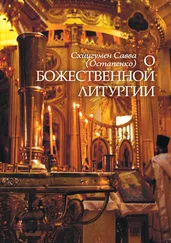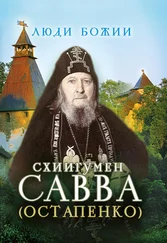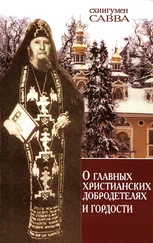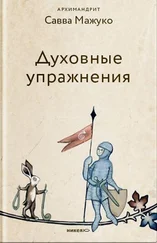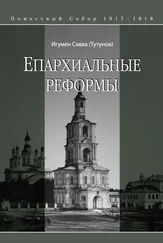Итак, не претензии чувствительных атеистов поставили меня в число борцов с известным лозунгом.
Почему в семнадцать лет я воевал против этого плаката?
Во-первых, по причине латентного исламизма. Сейчас я пытаюсь понять, как я верил, во что верил, кто я был по своим взглядам. Как определить религиозные взгляды моей юности? Отвечу так: православный ислам.
— Даже самому страшно такое читать! Пишу и удивляюсь!
И это чистая правда! Оказывается, вера — это процесс . Она находится в постоянном развитии. Как ни странно, верующий человек живет в непрерывном движении внутреннего развития. Вера — это не факт, а движение, не статика, а динамика. Невозможно просто поверить и успокоиться. Если ты не двигаешься, не развиваешься, не открываешь новые глубины и высоты, что-то идет не так.
Поэтому полезно спрашивать себя: если ты веришь в Бога, какое из Имен Божиих для тебя сейчас самое дорогое, самое важное? В семнадцать лет Бог для меня был Правдой и Справедливостью, а также Силой. Я знал, что Он может наказывать и миловать, и этим очень восхищался. От меня требовалась верность и покорность, и если бы пришлось умирать за Бога, я был готов.
Но Бог для меня был далеко. Гораздо ближе были «старшие товарищи» — святые подвижники, аскеты и мученики, житиями которых я зачитывался. Надо соблюдать заповеди, не важно почему. Бог так хочет. Да хотя бы потому, что можно попасть в ад; я ходил под впечатлением «Мытарств Феодоры» и тщательно выписывал на исповедальный листочек все возможные погрешности и мысли, тянущие на «загробный срок».
Конечно, я читал Евангелие, потому что положено в день прочитывать одну главу, но Бог-Любовь впервые обозначился именно на исповеди. Прочитав «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», я решил исповедоваться по рекомендациям этой книги и начал:
— Каюсь в том, что не люблю Бога…
Мой духовник даже подхватился:
— Не любишь Бога? Что Он тебе сделал?
И этот вопрос мгновенно меня отрезвил. Почему-то сразу стало понятно, что все мои любимые преподобные жили любовью к Богу, их лица светились глубоким целомудрием любви. Но это было так не похоже на эмоциональную взвинченность, которая меня отпугнула у протестантов.
Есть истины, о которых Христос не говорит напрямую. Мне кажется, основа христианской религии — добродетель благодарности. Помните, как похвалил Спаситель благодарного самарянина, вернувшегося поблагодарить за исцеление от проказы? Десять было исцелено, и только один пришел сказать спасибо. А ведь Христос не давал такой заповеди. Да и как бы это звучало из уст Творца: будьте благодарны! Господь не говорит того, что за Него должны сказать апостолы. «Бог есть Любовь» — это слова не Христа, а его ученика, апостола Иоанна. О Своей любви к людям Бог говорит иначе. Здесь не помогут слова. Поэтому у нас перед глазами стоит Крест. И мы молчим.
«Бог любит тебя таким, какой ты есть!» Прошло столько лет, а я по-прежнему считаю этот слоган пошлостью, а аргументы в его защиту слабыми. Я редко думаю об адских муках, но для меня они не черти со сковородками, а обязанность слушать проповедника-зануду, целую вечность вещающего о любви Божией. Это самая жуткая из казней, придуманных людьми!
О любви может говорить только тот, кто имеет на это право. Это высший пилотаж речи, для которого требуется сердце поэта. Упомянутый Афанасий Фет написал одно из самых удивительных стихотворений о любви:
Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца.
Ряд волшебных изменений милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..
Найдите в этом тексте хотя бы один глагол. Ни одного! «Безглагольный Фет» — так называли поэта знатоки его творчества. Он нашел верную тональность для разговора о любви, а любовь — это самое святое в человеке, а потому и самое уязвимое для пошлости и подделок.
Евангелие — откровение о Боге-Любви, о Боге-Человеколюбце. Самое главное, что мы знаем о Боге. Перед богословом и перед рядовым христианином всегда стоит вопрос: как сказать об этом, как донести евангельскую весть, не опошлив ее, не превратив Христа в Иисусика? Блаженный Августин, преподобный Симеон, старец Силуан и многие другие находили и нужные слова, и верные интонации, но для каждого времени, для каждого человека они свои, а значит, невозможно создать универсальный язык проповеди, он должен изобретаться всякий раз заново. И главное — честность перед самим собой.
Читать дальше