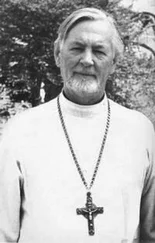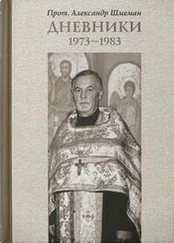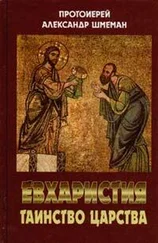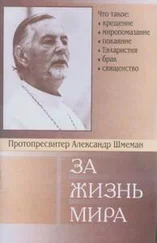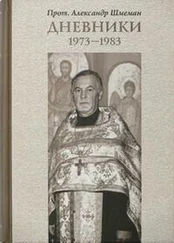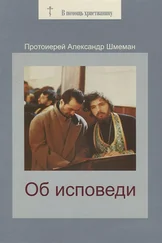Как же проявляется оно? Прежде всего в деятельной любви, в которой каждый сознает себя принадлежащим всем и взамен — всех, как принадлежащих ему. Любовь, которою Бог так возлюбил мир, что отдал за него Сына, живет в Церкви и есть главное и первое ее свидетельство о Христе. «Возлюбленные, — скажет Апостол Иоанн на закате своей жизни, — если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает и любовь Его совершенна в нас» (1 Иоанна 4, 11—12). Любовь требует общей жизни, подлинного единства — не только в вере или учении, но и в общении; если теперь единство христиан между собой, увы, большей частью только «символизируется» в богослужебном общении, то в ранней Церкви Литургия увенчивает действительное единство, постоянное общение в повседневной жизни и вне этого общения немыслима. Ни одно слово не повторяется так часто в ранне-христианской письменности, как слово «братья», но в это братство христиане вкладывают весь его жизненный, деятельный смысл. Оно выражается в единомыслии: «У множества уверовавших было одно сердце и одна душа». О радости единомыслия — «утешения общей верой» — неизменно напоминает Павел, прося хранить его, прося «снисходить друг другу и прощать взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле и будьте дружелюбны»… (Кол. 3, 13—15). Оно выражается, далее, в деятельной взаимной поддержке и заботе всех о всех, заботе одинаково материальной и духовной. «Все верующие, — читаем мы в Деяниях, — были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого… Никто ничего из имения своего не называл своим и не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (2, 44—45; 4, 32—35). Таким образом в первое время сравнительная малочисленность христиан в Иерусалиме дала возможность радикально осуществить единство жизни в общении имуществ. То, что в наши дни было так неудачно названо «первохристианским коммунизмом» было на деле не результатом какой-либо специфически христианской экономической или социальной теории, а проявлением любви, иными словами, не в общении имуществ как таковом, смысл рассказа Деяний, а в том свидетельстве о новой жизни, всецело преображающей старую, которое проявлялось в этом общении. И уже в посланиях Павла находим мы призыв «каждому уделять по расположению своего сердца», что указывает на сохранение в других общинах частной собственности. Но максимализм иерусалимской общины — этого братства «нищих», как назвал их Павел, навсегда останется в христианском сознании как неустранимый пример и завет; как идеал полного преображения жизни, действительного обновления всех человеческих отношений любовью. И почти в каждую эпоху, всё в новых и новых условиях, будет возрождаться в сердцах христиан, пусть иногда очень немногих, стремление воплотить этот идеал первохристианства, сделать Церковь подлинной основой «новой жизни».
Раннюю Церковь часто изображали равнодушной к миру, постоянно пребывающей в напряженном ожидании конца. Но уже в самом этом идеале любви и новой жизни, воплощенной в церковном обществе, заключено и новое отношение к миру, потому что для христиан эта любовь есть не внутреннее дело Церкви, а сущность ее свидетельства в мире. «Посему узнают все, что вы мои ученики, если будете любовь иметь между собою». И в Новом Завете, если его внимательно читать, открывается целостное учение о мире и о том, как должны относиться к нему и жить в нем христиане. Нагорная Проповедь, заповеди блаженства, образ милующего и помогающего Христа, будут Церковью возвещены миру и останутся идеалом его даже тогда, когда люди отвергнут Церковь. А в посланиях ап. Павла не будут ли всегда искать христиане первичных норм своих отношений к государству, семье, труду, ко всем сторонам человеческой жизни? Нет кажется ни одной, которой не коснулся он в своем пламенном служении братьям. Ожидание конца, молитва о пришествии Христа — всё то, что теперь принято называть «эсхатологизмом», и к нему одному сводить сознание ранней Церкви, на деле, нельзя, без насилия над исторической правдой, отделить от этого положительного идеала. Грядущее Царство, о котором молятся христиане, неотделимо для них от суда, суд же относится как раз к мере воплощения ими своей веры в жизни, то есть в мире. «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40). Христом Царство Божие вошло в человеческую жизнь, чтобы обновить ее. И если в свете этого Царства «проходит образ мира сего», то неизбежность конца — как раз и делает служение христиан столь ответственным, а всё в мире целью этого служения. Благая Весть в них обращена ко «всей твари» (Мк. 16, 15).
Читать дальше