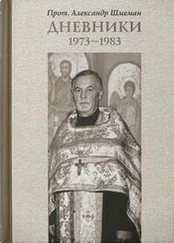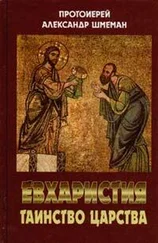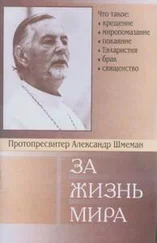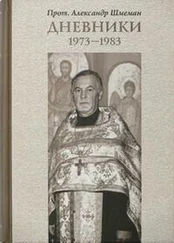Но как раз потому, что «Домострой» не описание, а «идеология», в самом его появлении можно усмотреть один из признаков того глубокого духовного неблагополучия, подлинного кризиса, который скрывается за внешним «благолепием» и ладом московской церковной жизни. Не говоря уже о многочисленных недостатках самого церковного общества — духовенства, монахов, мирян, — о которых свидетельствует Стоглавый Собор (задуманный Грозным как раз, как исправительный или по слову о. Флоровского, даже «реформационный»), о падении образования, об обрядоверии, остатках язычества и т. д., нельзя не отметить брожения умов, перебоев мысли, тревоги самого церковного сознания. Такое брожение чувствуется уже в 14-ом веке в Новгородской ереси «стригольников», движении рационалистическом и противо-иерархическом. Еще «симптоматичнее» — в 15-ом веке — ересь «жидовствующих»: в ней своеобразное вольнодумство причудливо сочетается с темными астрологическими интересами. Затем начинается знаменитый спор «осифлян» — то есть последователей Иосифа Волоцкого с «заволжцами» — монахами заволжских скитов, главным идеологом и учителем которых был преп. Нил Сорский. Внешне это спор о монастырских владениях, о праве монахов владеть «селами» — то есть быть имущественным классом в государстве и еще о казне еретиков. На деле, конечно, сталкиваются два различных понимания самого христианского идеала. В «Путях Русского Богословия» о. Г. Флоровский говорит по этому поводу о столкновении «двух правд», причем правду Иосифа Волоцкого определяет как «правду социального служения». «Самого Иосифа, — пишет он, — меньше всего можно назвать потаковником. И никак не повинен он в равнодушии или в невнимании к ближним. Он был великим благотворителем, «немощным сострадателем», и монастырские «села» защищал он именно из этих филантропических и социальных побуждений. Самого Царя Иосиф включает в ту же систему «Божьего тягла» — и Царь подзаконен и только в пределах Закона Божьего и заповедей обладает он своей властью. А неправедному или «строптивому» Царю вовсе и не подобает повиноваться»… Но какова бы ни была внутренняя правда Иосифа, система его слишком хорошо подходила к «тягловому» характеру Московского государства, слишком очевидно соответствовала его утилитарной психологии и торжество ее было торжеством уже не правды, а именно внутренней опасности, в ней заключенной, психологического подчинения христианства миру сему и его нуждам. С этой точки зрения разгром заволжского движения, несмотря на осложненность всех этих споров политическими мотивами, — был подавлением и духовной свободы Церкви, несводимости ее к одному государственному или социальному служению. Заволжцы жили исконной духовной традицией Православия — «процессом духовного и нравственного сложения христианской личности». И снова, в этом опыте подлинной духовной свободы, пробуждалась как раз и социальная совесть, протест против религиозного насилия, против московского всепожирающего «тягла», против безостаточного подчинения человеческой личности «строительству».
Но сильнее всего за всеми этими спорами и перебоями чувствуется постепенный отрыв «официального» русского Православия от творческих традиций своего вселенского прошлого. Освобождение от канонической зависимости от греков оборачивается постепенно недоверием ко всему греческому вообще, к противоположению своего — русского — Православия, своей — русской — древности Православию «греческому». В этом смысл знаменитого «Стоглавого Собора» 1551 г., собранного по инициативе Грозного, но, больше всего, выразившего настроения Макария и Сильвестра. Собор должен был исцелить вопиющие недостатки церковного общества: замыслом Грозного была, по-видимому, глубокая и всесторонняя реформа. Но вот характерно, что ни Грозный ни участники собора не мыслили этих исправлений, как проверки себя по надежным критериям Вселенского Предания Церкви, как творческого обновления их в новых условиях. «Греческую веру» Грозный не любил и вдохновлялся Западом. Но на его «либеральные» вопросы Собор ответил утверждением старины: именно старины, того, что было при предках, не истины. Так в полной неудаче исправления богослужебных книг, вопросе, назревшем уже тогда, сказалось отсутствие всякой подлинной перспективы в сознании «укрепителей» Русского Православия, — в полуграмотных, неоправданных переводах, ими утвержденных, в беспомощности при определении критериев уже заложена была язва раскола. Здесь сказалось впервые так сильно и ясно недоверие к мысли и творчеству: спасение только в неукоснительном сохранении старины, и в этом беспомощном консерватизме открывается весь трагизм, вся глубина московского отрыва от живой православной культуры. Спасением стало соблюдение устава, исполнение обряда. Но обряд из-за непонимания его людьми стал уже самоцелью, так что даже явные ошибки в тексте, освященные древностью — оказывались неприкосновенностью, а их исправление — опасным для души. Наконец, развилась уже простая боязнь книги и знания. Сами учители, по словам Курбского «прельщали юношей трудолюбивых, желавших навыкнуть Писания, говоря: не читайте книг многих, и указывали, кто ума изступил, и он — сица в книгах зашолся, а он — сица в ересь впал». Типография в Москве была закрыта — и русские «первопечатники» Иван Федоров и Петр Тимофеев обвинены в ереси, потом, «презельного ради озлобления от многих начальник и священноначальник и учитель» удалились в южную Россию. Сам царь вступился, наконец, за книгопечатание и снова открыл типографию в 1568 г.
Читать дальше