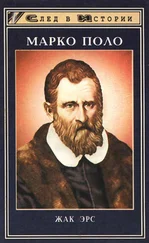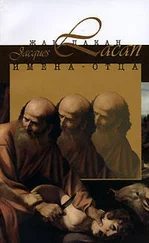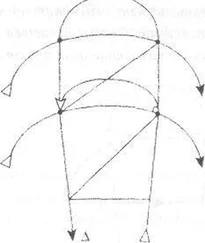— в памятниках: таковым является мое тело, т. е. истерическое ядро невроза, где исторический симптом обнаруживает структуру языка и расшифровывается как надпись, которая, однажды будучи прочитана, может затем быть уничтожена без особого сожаления;
— в архивных документах, смысл которых остается непонятен, покуда не выяснено их происхождение: таковы воспоминания детства;
— в семантической эволюции: она соответствует моему запасу слов и особенностямих употребления, а также моему жизненному стилю и характеру;
— в традициях и даже легендах, где моя история облекается в героизированные формы;
— в следах искажений, которые возникают при согласовании с соседними главами фальсифицированной главы, чей смысл должен быть восстановлен нашим собственным истолкованием.
Студент, которому придет в голову мысль — настолько редкая, правда, что приходится в процессе обучения еепропагандировать — что для понимания Фрейда лучше читать Фрейда, чем г-на Фенишеля, сможет, осуществляя ее на практике, легко убедиться, что все сказанное здесь даже по духу своему столь мало оригинально, что не содержит ни единой метафоры, которая не повторялась бы в работах Фрейда с частотой лейтмотива, проливающего свет на самый замысел их.
В дальнейшем он на каждом шагу своей практики без труда убедится в том, что подобно отрицанию, которое удвоением аннулируется, метафоры эти теряют свой метафорический смысл; а убедившись, поймет и причину этого, заключающуюся в том, что он работает в собственной сфере метафоры, которая есть лишь синоним включенного в механизм симптома символического смещения. Ну, a после этого он лучше сможет оценить и воображаемое смещение, мотивирующее труды г-на Фенишеля, измерив разницу в основательности и технической эффективности между отсылками к мнимо-органическим стадиям индивидуального развития, с одной стороны, и исследованием отдельных конкретных событий истории субъекта, с другой. Разница здесь та же, что между подлинным историческим исследованием и пресловутыми законами истории; прекрасно известно, что в каждую эпоху находится философ, выводящий их из преобладающих в эту эпоху ценностей. Это не значит, что в многообразных смыслах, обнаруженных в общем ходе истории на пути от Боссюэ (Жака-Бенина) до Тойн-би (Арнольда), вехами на котором служат творения Огюста Конта и Карла Маркса, ничего достойного внимания не найдется. Всякому ясно, конечно, что для ориентировки исследований в области ближайшего прошлого, равно как и для сколь-нибудь осмысленных предположений о ближайшем будущем, от таких знаков одинаково мало толку. Они достаточно скромны, чтобы откладывать свою достоверность на послезавтра, и не столь щепетильны, чтобы не допускать ретушировки событий, позволяющей успешно предвидеть происходившее вчера.
Но если для научного прогресса польза от них невелика, то в другом отношении они действительно интересны и заключается этот интерес в той существенной роли, которую они играют в качестве идеалов. Она-то и заставляет нас провести различие между первичной и вторичной функциями историзации.
Характеризуя психоанализ и историю как науки, посвященные изучению особенного, мы вовсе не утверждаем, будто факты, с которыми они имеют дело, совершенно случайны или произвольны, а все значение их сводится в конце концов к травме в ее первозданном виде.
События зарождаются в первичной историзации; другими словами, история создается уже на сцене, где, будучи однажды записана, она тут же разыгрывается перед взорами совести, с одной стороны, и правосудия, с другой.
В некую эпоху некий бунт в предместье Сент-Антуан переживается его актерами участниками как победа или как поражение Парламента или Двора, в другую — как победа или поражение пролетариата и буржуазии. И хотя, в снобом случае, расплачиваются за все говоря языком Ретца, «народы», перед нами совершенно разные исторические события — мы хотим сказать, что в памяти людей они оставят совершенно различный след.
Дело в том, что с исчезновением реальности Парламента и Двора первое событие вновь уподобится травме, которая, если не тревожить специально ее первоначального смысла, способна к постепенному и подлинному заживанию. В то время как память о втором останется живой даже в условиях цензуры — подобно амнезии вытеснения, которая представляет собой одну из самых цепких форм памяти — и останется до тех пор, пока существуют люди, готовые подчинить свой бунт борьбе за выход рабочего класса на политическую сцену, т. е. люди, для которых ключевые слова диалектического материализма имеют смысл.
Читать дальше