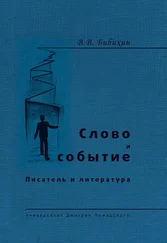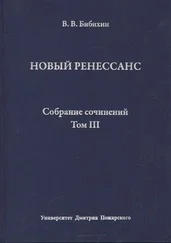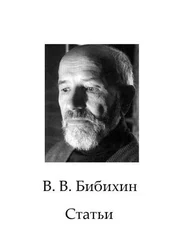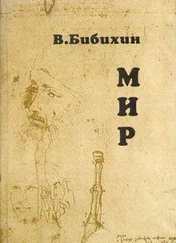Философия — мысль, отпущенная до пределов внимательного понимания. Она впускает в себя мир, прислушивается к нему и дает сказаться его тишине. Заглавие «язык философии», как уже говорилось, тавтология. Философия и есть язык.
Она поэтому заранее уже имеет место в мире. Это место она должна найти. Первый и необходимый, хотя еще и не достаточный шаг в таком искании, — оставление свободы слову.
Бибихин В. В. М ир. — «Философская и социологическая мысль», 1990, №. 2, 5, 8, 12. Также В. В. Б ибихин . Мир. Томск: Водолей 1995.
«[…] jene geistige Kraft, die sich in ihrem Wesen nicht ganz durchdringen […] lässt» ( Humboldt W. von . Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues, § 3).
Eco U . La struttura assente. Milano, 1968, p. 46.
Ibid., р. 322.
Ibid., р. 324
Ibid., р. 379.
Гумбольдт В. фон . О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества. — В кн.: Гумбольдт В . фон. Избр. тр. по языкознанию. М., 1984, с. 82.
Бибихин В. В. К онтологическому статусу языкового значения. — В кн.: Традиция в истории культуры. М., 1978, с. 231–243.
«Im Satz wird eine Welt probeweise zusammengestellt». — In: Wittgenstein L . Notebooks 1941–1916. Ed. G. H. von Wright and G. E. M. Amscombe. Oxford, 1979, p. 41; 7.
Ibid., р. 84. Ср.: Витгенштейн Л . Логико–философский трактат, 5.63.
Robinson I . The new grammarians’ funeral: A critique of Noam Chomsky’s linguistics. Cambridge, 1975, p. 86.
Чаадаев П. Я. О трывки и афоризмы. — В кн.: Чаадаев П. Я. С татьи и письма. М., 1987, с. 167.
Для трехсложных слов метатеза скорее правило чем исключение. Так, наша гирлянда по–испански hirnalda; муравей — латинское formica, древнеиндийское vamrá, древнеисландское maurr (перестановки mrv, vrm, vmr, mvr). Пусть родство слов голова и бокал остается догадкой; достаточно того, что латинское testa не только горшок , но и чаша . Понятно, что как раз в иррациональном случае метатезы возможности научного этимологического анализа ограниченны. Тем не менее нет причин не обращать внимания на то, что три слога в одном корне для языка — как бы слишком много, и он перестает следить за соблюдением их порядка.
Потебня А. А. М ысль и язык. — В кн.: Потебня А. А. С лово и миф. М. 1989, с. 166, 176, 177.
Там же, с. 97.
«Die Sprache ist die allumfassende Vorausgelegtheit der Welt» ( Gadamer H. G. B egriffsegeschichte als Philosophie: Kleine Schriften. Bd, 3. Tübingen, 1972, S. 237–250).
«Die Welt, die Welt, ihr Esel! ist das Problem der Philosophie, die Welt und sonst nichts!» — Цит. по: Schirmacher W . Schopenhauers Wirkung: Ein Philosoph wird neu gelesen. — In: «Prisma», 2/1989, S. 25.
Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1990, с. 176–179.
Вöll Н . Die Sprache als Hort der Freiheit. — In: Der Schriftsteller Heinrich Böll. Ein Biographisch‑bibliographisches Abriß. Köln, Berlin, 1966, S. 18.
Самосознание культуры и искусства XX века. М., 2000, с. 419–420.
Jaspers К . Die großen Philosophen. Bd. 1, S. 634.
Heidegger M.; Fink E. Heraklit: Seminar Wintersemester 1966/1967. Frankfurt a. M., 1970, S. 45.
Следующий шаг в толковании надписи на фронтоне дельфийского храма Аполлону см.: Бибихин В. В. У знай себя. СПБ: Наука 1998.
Неgе1 G. W. F. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. 1. Bd. Leipzig, 1971, S. 424.
Ibid., S. 449.
Ibid., S. 449.
Лосев А. Ф. П роблема символа и реалистическое искусство. М., 1978, с. 128.
Там же, с. 51.
Там же, с. 128.
Там же, с. 57.
Васильева Т. В. А финская школа философии. М., 1985, с. 3.
Gadamer H. G. P hilosophische Lehrjahre. Frankfurt a. M., 1977, S. 213.
Васильева Т. В. У к. соч., с. 51.
Цит. по: Аверинцев С. С. Н еоплатонизм перед лицом Платоновой критики мифопоэтического мышления. — В кн.: Платон и его эпоха. М., 1979, с. 91.
Там же, с. 94.
Там же, с. 95.
Белый А . На перевале. III. Кризис культуры. Пг., 1920, с. 19.
Современная тоска по догмам, которые куда‑то делись, недовольна философией: неужели философия не говорит ничего мировоззренчески определенного, неужели действительно мир, человек, даже язык ускользают от дефиниций? Спасением кажется христианское вероучение, где вроде бы снова можно найти якорь для мысли. Почему у вас всё так получается, спросили меня однажды: с привычными понятиями что‑то делается, они плывут и превращаются в другие, язык–средство превращается в язык–среду; в таком случае нельзя ли хотя бы это — что всё плывет — считать установленным? неверно разве открытие, что всё течет и изменяется? Я ответил, что, если это положение верно, оно тоже должно изменяться. Но тогда разве неверно, продолжали испытывать меня, что вообще существует абсолютный всеобщий закон? Я сказал, что если бы он был, я ничего не мог бы о нем знать, потому что всякое знание, в том числе и о нем, мне диктовал бы сам тот закон, а говоря под его диктовку то, что он велит, я никогда не встану в свободное отношение к нему, т. е. никогда не увижу его суть. Я говорил эти и другие подобные вещи, и мне делалось всё более неловко. Я ускользал и разрушал всякую определенность. Такой нигилист явно не заслуживал места в человеческом общежитии. Ни одной устойчивой надежной истины не оставалось. Наконец меня поставили к стенке: но Бог, Бог ведь согласно христианскому вероучению неизменен, вечен, постоянен! Я не устоял и сознался: да, конечно. Бог неизменен, постоянен, вечен. Произнес я это заикаясь, но успокаивал себя: должно же быть хоть что‑то одно определенное, надежное. Непонятно только тогда, конечно, к чему философия с ее вопросами и нерешенностями. Если есть одно постоянное, вечное, неизменное, то и держись его, а всё остальное отбрось. От переусложненностей, измышлений отойди. Есть Бог, и исходи из этого. С философией расстанься. Вдруг я почувствовал, что оказался нигде, и вера, ради которой я решил бросить философию, меня не принимает. Я набрался смелости и взял свои слова обратно, как берут подследственные, давшие показания под давлением. Под давлением, от стыда, что же это за философия такая, что же это за мысль такая, что не может иметь и сказать ничего определенного, я сдался и согласился: да. Бог вечен, неизменен, постоянен. Но это неверно. Из‑за непостижимости Бога все утверждения о нем подлежат также и отрицанию. Он неизменен не так, что в нем не окажется изменчивости, когда Он того захочет. Он не изменчив, но и не мертв. Если изменчивость — черта жизни, то Бог сверхизменчив, и только если изменчивость понимать как порок, ее в Боге не будет. Больше того. Бога нельзя даже привязать к этому Его обозначению: «Бог»; Он Сверхбог (ὑπέρθεος), и о Нем «как о Причине всего сущего следовало бы, с одной стороны, высказывать и утверждать все без изъятия положительные суждения, какие могут относиться к сущему, а с другой стороны, одновременно с еще большим основанием как о Превосходящем всё сущее отрицать все эти суждения, причем не думать, будто отрицания о Нем противоположны утверждениям, но, гораздо скорее, считать Его, поднявшегося как над любым отрицанием, так и над любым полаганием, не причастным никакому лишению». По Дионисию, Он ни изменчив, ни неизменен, ни изменчив и неизменен вместе. Вот конец последнего трактата Дионисия:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу