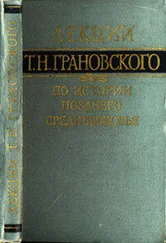Диоклетиано–константиновская эпоха была наполнена целым рядом важнейших внутренних реформ, имевших целью связать разрушающееся здание Римской империи и придать ее администрации единство и законченность, причем основным мотивом всех этих направленных на упорядочение внешнего строя Империи реформ служила именно идея абсолютной, неограниченной монархии. Стремление к абсолютной власти заметно уже проглядывает у императоров III в.; Диоклетиан оформляет это стремление, а Константин Великий проводит его с неуклонной последовательностью во всех частях администрации. С именем этого императора связывается великий переворот не только в истории христианства, но и в государственном строе Римской империи — ряд преобразований, из которых немалая часть продолжает оставаться в силе и поныне. Но еще любопытнее обратить внимание на то обстоятельство, что эта преобразовательная деятельность первого христианского императора так тесно связана с мероприятиями язычника Диоклетиана, что невозможно определить, где перестает действовать один и начинает другой.
На процессе развития императорской власти в Римской империи диоклетиано–константиновские реформы отразились в том отношении, что благодаря им власть императора упрочилась, сделалась постоянной и получила характер самодержавия. До этих реформ император был более полководцем, чем правителем Империи; теперь же он становится действительным политическим центром, а вместе с этим и вся та безусловная власть, которая принадлежала императору как полководцу в войске и на войне, переносится теперь на императора как правителя Империи. В системе Константина император царствует по Божественному праву и управляет Империей по своему собственному усмотрению, не давая никому и ни в чем отчета. Его лицо — священно ; он называется величием и вечностью; все, что окружает его, проникнуто тем же священным характером; его комнаты — sacrum cubiculum; его сокровища — sacrae largitiones. Своим подданным он является на троне, в расшитой жемчугами диадеме и в одежде, украшенной драгоценными камнями. Кто получает доступ к нему, тот должен падать на колени и преклонять свое лицо до земли. Правда, еще в первом веке Империи существовал культ императоров, придававший императорской власти характер божественности, но это был культ не личности, а учреждения, культ императорского гения; на личность же он переходил только по смерти; тогда император мог сделаться «divus», но и то не всегда, а лишь в таком случае, когда его признавали достойным такой чести. Все это изменяется в эпоху Константина, и на этом изменении, между прочим, сказывается влияние новой христианской религии. Это влияние состояло, конечно, не в тех восточных формах, какими окружил себя император в Империи Константина, а в том, что с христианской теократической точки зрения император уже не был ставленником народа: он есть помазанник Божий, свыше предопределенный к тому, чтобы руководить судьбой государства. В этом отношении Церковь имела политическое значение, облегчив ускорение внутреннего процесса; благодаря ей императорская власть сделалась властью «Божией милостью», а не властью «изволением народа». — Итак, центром и главой Империи IV и V вв. был самодержавный император; его воля есть источник всяких законов и последняя инстанция всяких решений.
Спрашивается теперь: каким же образом император, совмещавший в своем лице всю полноту власти, мог осуществлять эту власть на деле? Какие были у него средства для проявления своей воли?
Этот вопрос должны были решать еще императоры первых двух веков Империи, и они ответили на него созданием особого служилого класса — чиновников, находящихся в полном распоряжении центральной власти и вполне зависимых от нее. Образование и история этого нового класса, возникшего вместе с Империей, представляет собой факт всемирно–исторического значения, потому что, собственно говоря, это была первая в истории систематическая попытка утвердить бюрократизм, последовательно провести бюрократический принцип, который впоследствии из Римской империи и был перенесен в монархии Нового времени. Дело началось очень скромно. Сначала, если взять императоров Юлиева и Клавдиева домов, у них не было административных средств и специальноадминистративного персонала; и вот для создания этого персонала они оперлись, во–первых, на свое военное положение и на возможность назначать своих легатов в некоторые провинции, а во–вторых, на свое помещичье положение — на рабов. Центр их администрации, как и у всех богатых землевладельцев того времени, состоял первоначально из рабов и вольноотпущенников; особенно важную роль играли в этом случае последние, т. е. вольноотпущенники, потому что они преимущественно были пригодны для такого дела, которое требовало инициативы и самостоятельности, требовало, чтобы человек был личностью; раб был слишком мертв для административных целей, и поэтому в канцеляриях Юлиева и Клавдиева домов работали по большей части вольноотпущенники, хотя для неважных дел употреблялись и рабы. Таково было скромное начало; затем оно росло вместе с императорской властью и в диоклетианово–константиновскую эпоху развилось в целую бюрократическую систему, так что развитие бюрократизма может считаться для этой эпохи самым лучшим и характерным показателем роста императорской власти.
Читать дальше