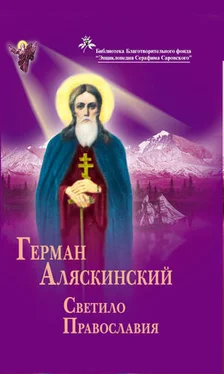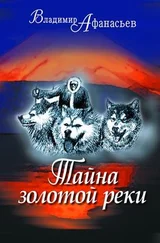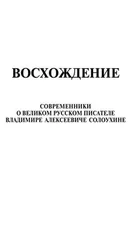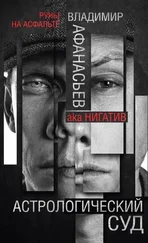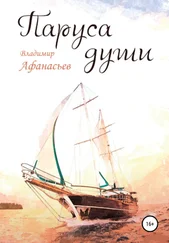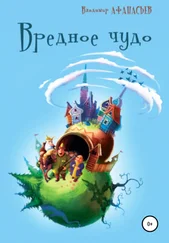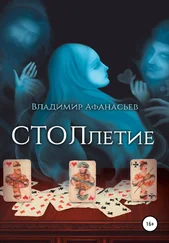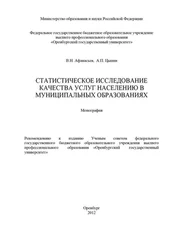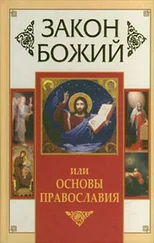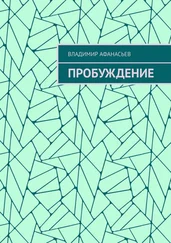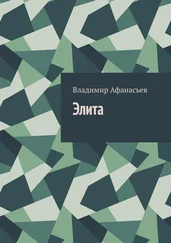Ваше Высокопреосвященство, осмеливаюсь умолить Вас: благоволите известить меня, в какой мере рассказанное сведение достоверно; благоволите сказать ещё что-либо об отце Германе, известное Вам. Умоляю Вас, не откажите. Вашего письма с нетерпением великим будет ожидать Валаамская обитель: оно будет для нее неоценимо дорого. Святый Владыко, обрадуйте.
Преклоняя колена со всею братиею, прошу осенить нас всех Вашим архипастырским благословением, приношу Вам общее наше усерднейшее поздравление с высокоторжественным праздником Рождества Бога Слова и с чувствами, исполненными глубокого благоговения и сыновней преданности, навсегда долгом священным поставляю себе пребыть Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря, со всею о Христе братию, нижайшим послушником.
Игумен Дамаскин».
В скромном своем послании Валаамскому братству и в их лице игумену Дамаскину Архипастырь Иннокентий сообщал:
«Возлюбленный мой о Господе Брат, Отец Игумен Дамаскин!
Прежде, нежели я буду отвечать на послание Ваше, от 27 декабря за № 345, касательно о. Германа, долгом считаю свидетельствовать Вашему Высокопреподобию с братиею мою благодарность за присланные мне виды Валаамского монастыря.
В рассказе о покойном о. Германе есть правда, но не все.
Действительно, было, что мы в 1842 году, плывя в Кадьяк, долго были в море и находились в крайности, так что у нас на пятьдесят два пассажира оставалось менее полубочки воды. И перед входом в Кадьякскую гавань нас встретил противный ветер, который дул ровно трое суток. В это время судно наше ходило взад-вперед (или, по-морскому, лавировало) от южного мыса Кадьяка до Елового острова, где жил и скончался о. Герман. На третий день к вечеру, когда судно наше опять подошло к Еловому острову (может 20-й или 30-й раз), я, глядя на оный, сказал в уме своем: “Если ты, отец Герман, угодил Господу, то пусть переменится ветер”. И точно, не прошло, кажется, и четверти часа, как ветер вдруг сделался попутный, и мы в тот же вечер вошли в залив и стали на якорь. Молебна же в то время не служили. Потом чрез несколько времени я ездил на могилу и служил панихиду, но видения никакого я не видел.
Более этого я ничего не знаю и ни от кого ничего подобного не слыхал об о. Германе.
Затем, поручая себя молитвам Вашим, имею честь быть, с искреннею о Господе братскою любовию Вашего Высокопреподобия вседоброжелателъный слуга.
Иннокентий, архиепископ Камчатский.
Марта 1-го дня 1867 г.
Благовещенск».
* * *
Будущий митрополит Московский Иннокентий свято знал, что переход Преподобного в мир иной не означает оставление тех, кто с верой и любовью приходит к нему. Если Господом Иисусом было сказано: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин.14, 18), то эту возможность пребывать в таинственном благодатном, вполне реальном общении с любящими предоставил Он и прославившимся о Его имени святым. В Боге и через Бога святые получают нечто вездесущее, способность быть услышанными и присутствовать всюду, где бы ни произносилось их имя.
Преосвященный предвидел, что близок день, когда Святая Церковь богодарованной ей властью удостоверит и утвердит веру в святость и ходатайственную силу перед Богом Подвижника веры и благочестия, избранника Божия Преподобного Германа, которого ублажают и прославляют на Американской и Российской земле. Поэтому-то от всей души приемля святость Преподобного Германа, его сияние, его силу влиять на властный характер капризной природы Аляски, из добрых чувств Преосвященный так скромно выразил в письме Валаамскому игумену Дамаскину свое пребывание на острове Еловом, оставив невысказанностью только свою, внезапно явленную в себе, тайну, чтобы, как великую ценность, хранить до определённого времени.
Умолчание о чуде – видение на могиле отца Германа Преосвященному Иннокентию – это усмотрение опасности – гордыни на его дальнейшем пастырском пути крестоношения.
* * *
Эпоха Преподобного Германа Аляскинского была менее мучительной в истории многострадальной Русской Православной Церкви, нежели, когда обезглавленная царем Петром Первым потеряла в лице Патриарха своего заступника, но избежала попыток расцерковления России тёмными указами императрицы Екатерины Второй. Он родился в то время, когда Церковь вышла из темниц утеснений и стала расправлять оживающие крылья для дальнего большого полёта.
В ста десяти километрах от Москвы в славном городе Серпухове, раскинувшемся старинной крепостью и монастырями на мягких берегах красивых рек – Оке и Наре-журчинушке, 4/17 марта 1756 года в купеческой семье Ивана Зырянова родился первенец, которого в святом крещении нарекли Герасим.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу