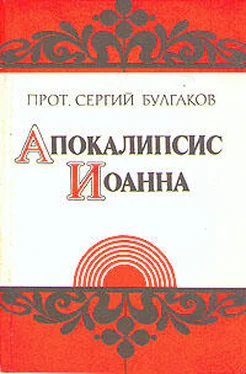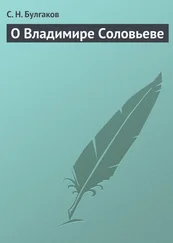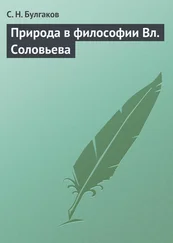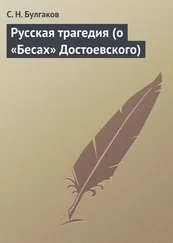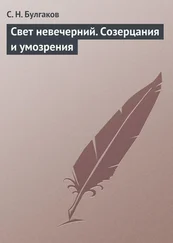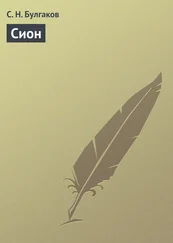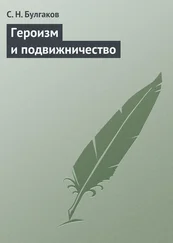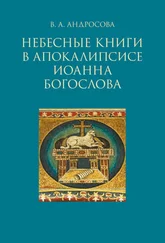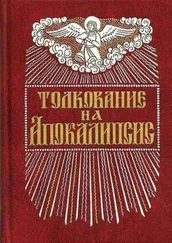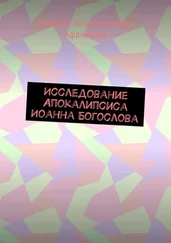[128] В отдельных случаях это неупотребление имеет прямо разительный характер. Вот один из таких примеров. Для паремийных чтений службы арх. Михаила и прочих бесплотных сил избирается не XI глава Откровения (7-11), где раскрывается основное и исчерпывающее дело арх. Михаила и ангелов его, именно война в небе с драконом и ангелами его, заканчивающаяся его победой и низвержением с неба последних, и даже не апокалиптическая глава Дан. X, 13, XII, 1, но сравнительно второстепенное в догматическом отношении повествование о ветхозаветных явлениях ангелов: Иисусу Навину (V, 13-15) и Гедеону ( Суд, VI, 27, 11-24), как и Ис. XIV, 7-20 (последнее о низвержении царя Вавилонского аналогично Откровению XI, однако изображает его лишь в образах исторической аллегории).
[129] См. об этом в «Невесте Агнца», отдел эсхатологии.
[130] Постольку согласно Мк. XIII, 32 неведение Сына Человеческого, относящееся к кеносису Его земного служения, включается в общее неведение всей твари, как ангелов, так и человеков («бодрствуйте» сказано и апостолам, «потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» Мф. XXV, 13). Выражение «ни дня, ни часа», конечно, не означает, что Второе пришествие совершится в один из дней и часов земного времени (а не с превышением его, в трансцензе времени). Здесь явным образам имеется антропоморфизм выражения, которое равносильно просто «никогда» в этом времени. Постольку здесь есть подобие личной смерти, которая происходит во времени, в определенный календарный день и час для всех остающихся в живых, но не для самого умирающего: для него вместе с временем угасает и день и час, вчера и завтра, вообще прекращается наше время (хотя и начинается новое, загробное, трансцендентное).
[131] Ср. «Невеста Агнца».
[132] Об этом особая речь в экскурсе о ветхозаветной эсхатологии и апокалиптике.
[133] Не это же ли свидетельствуется и в словах самого Господа, обращенных в лице книжников и фарисеев к Иерусалиму: «се оставляется дом наш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликните: «благословен Грядый во имя Господне» ( Мф. XXIII, 39).
[134] Ср. Didache, выше.
[135] Единственное здесь исключение, которым, однако, подчеркивается общее утверждение, остается таинственная судьба ап. Иоанна, о котором Петру сказано Господам: «если Я хочу, чтобы он пребыл, что тебе», однако в точности Иисус не сказал ему, что он не; умрет, но: «если Я хочу, чтобы он пребыл» ( Ин. XXI, 22-3).
[136] То и другое чувство выражается в одном ектенийном прошении: «христианский кончины живота вашего... и доброго ответа на страшном судище Христово просим»; оба прошения соединяются без противоречия.
[137] Даже самое мироотреченное пустынножительство не выходит из истории, по-своему с нею остается связано: так, преп. Мария Египетская в своем 47-летнем удалении от мира не оставляет о нем молитвенного попечения, но спрашивает о. Зосиму о «царях» и вообще жизни мира.
[138] Ап. Павел ( 1 Кор. XV, 5-й) так перечисляет удостоенных видеть Господа: «явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более чем пятистам братии в одно время... потом явился и Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне как некоему извергу». Павел же в синагоге Антиохии Писидийской говорит так: «Бог воскресил Его из мертвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые суть ныне свидетели перед народом» ( Деян. XIII, 30-31). Во всех этих перечислениях, однако, отсутствует, по смирению Рабы Господней, утаено сладчайшее Имя Той, Которой Он явился первой, — Матери Божией. В отношении к этому приходится здесь различить двоякого рода явления: так сказать, прижизненное, после Воскресения Христова, но ранее Ее Успения, вместе с апостолами и другими, того удостоенными, и в Ее Успении, в котором, по верованию. Церкви, Господь Сам явился, чтобы принять Ее святую душу при отшествии Ее из этого мира. Это соответствует и Ее воскресению из мертвых, в котором Она, конечно, пребывает в непрестанном созерцании Воскресшего Сына Своего.
[139] О. Кассиану (Безобразову) принадлежит заслуга обратить внимание на эту особую богословскую проблему «явления» Господа. Он связал ее с собственным теологуменом об «Иоанновской пятидесятнице», и потому все ее рассмотрение приурочено к этой ее постановке и ею ограничивается. Однако сама эта проблема, в особенности, как Проблема Апокалипсиса, гораздо шире и значительнее его постановки, которая может быть даже и отвергнута при сохранении всей значительности проблемы. См. Archimandrit. Casslen. La Pentecôte Johanique, 1939). Ср. мой разбор этой работы: «Иоаннова Пятидесятница» (рукописно).
Читать дальше