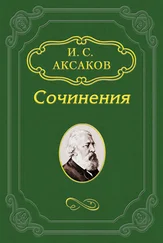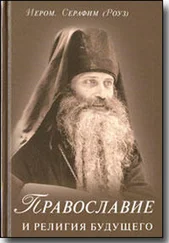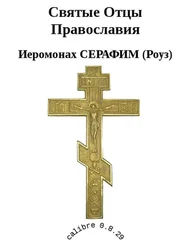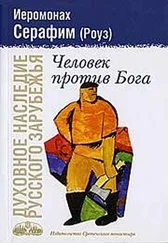Итак, давайте будем более скромными, более любящими и прощающими в нашем подходе ко свв. Отцам. Пусть показателем нашей преемственности по отношению к непрерывному христианскому Преданию прошлого будет не только наша попытка быть точными в учении, но и наша любовь к тем людям, которые передали его нам, одним из которых был, несомненно, блаженный Августин, как и св. Григорий Нисский, несмотря на их ошибки. Давайте же согласимся с нашим великим восточным Отцом св. Фотием Константинопольским и будем "не принимать как догматы те области, в которых они заблуждались, но принимать человеков".
И, в самом деле, нашему "правильному" и "точному", но хладному и нечувственному поколению православных христиан есть чему поучиться у блаженного Августина. Возвышенное учение Добротолюбия нынче "в моде"; но как мало тех, кто читает его, пройдя сперва "азбуку" глубокого покаяния, теплоты сердечной и подлинно православного благочестия, сияющих с каждой страницы заслуженно прославленной "Исповеди"? Эта книга, история обращения самого блаженного Августина, никоим образом не утеряла своего значения сегодня: ревностные новообращенные найдут в ней многое от своего собственного пути через грехи и заблуждения к Православной Церкви и противоядие против некоторых "неофитских искушений" нашего времени. Без огня подлинной ревности и благочестия, открывающихся в "Исповеди", наша православная духовность — подделка и пародия, причастная духу грядущего Антихриста, так же точно, как и догматическая апостасия, окружающая нас со всех сторон.
"Мысль о Тебе настолько глубоко волнует человека, что он не может быть доволен, пока не восхвалит Тебя, ибо Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе" ("Исповедь", 1, 1).
Донатизм — крупнейший западный раскол, разразившийся по случайному поводу в Карфагенской Церкви во время гонений Диоклетиана (после 284 г.), но быстро обнаруживший собственное антицерковное понимание благодати, присущей Церкви и ее таинствам. Раскольники во главе с Донатом отказались признать Карфагенского епископа Кикилиана по моральным соображениям — в данном случае, ложным, но так был поставлен принципиально вопрос о том, могут ли совершать таинства недостойные нравственно служители. Донатисты, оформившиеся в отдельную общину с собственной иерархией, настаивали на том, что таинства недостойных служителей недействительны и, следовательно, принимающая таковых служителей Церковь — не Церковь. Сами донатисты претендовали быть истинною Церковью Святых и принимали к себе от православных через крещение. Покончить с расколом было суждено только блаженному Августину, который представлял православную сторону в спорах на Карфагенском соборе 411 г. После победы блаженного Августина православный царь Грациан положил конец затянувшимся смутам в Африканской церкви. (По истории споров см.: Е.Трубецкой. "Религиозно-общественный идеал западного христианства в V-м веке". Часть 1. "Миросозерцание блаженного Августина". М„1892). В вопросе о таинствах блаженный Августин, увлеченный обстоятельствами полемики и своим слишком рационалистическим подходом, пришел к некоторым формулировкам, несогласным со Священным Преданием. Тем не менее, существа его учения это никак не коснулось: подобно всем Отцам, он утверждал, что в Церкви спасающая благодать присуща таинствам, совершаемым даже недостойными иереями, но за пределами Церкви ничего спасающего нет вообще (особенность его взгляда заключалась в признании действительности благодати в мнимых священнодействиях раскольников и еретиков, однако, в отличие от современных экуменистов, блаженный Августин считал, что в таких случаях благодать действует им на погибель). Подробно об этой стороне богословия блаженного Августина и о святоотеческом учении вообще см.: В.Н.Троицкий (впоследствии новосвященномученик архиепископ Верейский Иларион). "Очерки истории догмата о Церкви". Сергиев Посад, 1912.
В новое время православное учение о таинствах в том выражении, которое ему было придано блаженным Августином, вновь становится наиболее понятным для значительной части православных, находившихся в тесном соприкосновении с западной интеллектуальной средой. В этих условиях церковная власть в лице Константинопольского патриарха-исихаста Кирилла V и его Синода находит вовсе новое решение, теоретически обоснованное светским богословом подвижнического духа Евстратием Аргенти. Это было постановление 1756 г. о необходимости крещения при принятии в Православие латинян и армян (не говоря о протестантах, которых крестили и прежде). Тем самым, с одной стороны, была изменена древняя церковная практика, сравнительно легко допускавшая принятие еретиков и раскольников без чина крещения (при этом, каким бы чином ни осуществлялось это принятие, подразумевалось всегда, что присущую Телу Христову — Церкви — благодать человек получает впервые) — "августинизм" в его тогдашнем, позднем истолковании требовал обязательного совершения крещального чина ("формы" таинства). Но, с другой стороны, была засвидетельствована абсолютная безблагодатность еретиков — латинян, армян, — хотя, применяя подход блаженного Августина, следовало бы сказать, что благодать крещения они все-таки имеют, но она служит им к погибели (такое учение о благодати Православие не воспринимало никогда).
Читать дальше