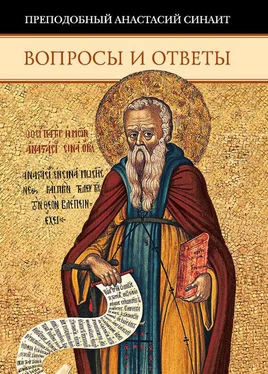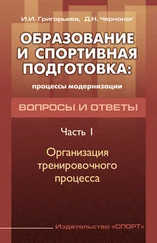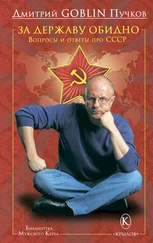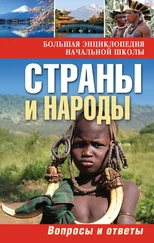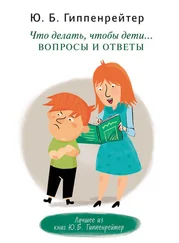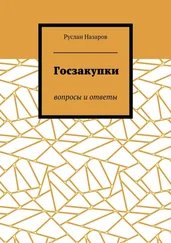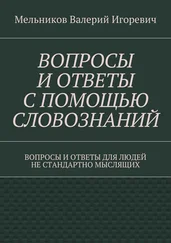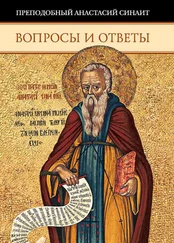Имеются в виду здесь, естественно, те прообразы, которые запечатлелись преимущественно в Ветхом Завете. Также подразумевается, что в задачу толкователя входит в первую очередь разъяснение подобных темных иносказаний и «типов». Можно констатировать, что уже в этом изначальном подходе автора рассматриваемого произведения к герменевтике Священного Писания рельефно оттеняется традиция александрийской (а точнее, новоалександрийской) экзегезы, представленной свт. Афанасием Александрийским и свт. Кириллом Александрийским. Главная же особенность этой экзегезы заключается, по словам выдающегося греческого ученого, «в органичном сочетании библейской герменевтики с православной христологией» [12] Панагопулос И. Толкование Священного Писания у отцов Церкви. Т. 1. М., 2013. С. 556.
. Подобное христологическое толкование, органично и неразрывно сочетающееся с духовно-анагогическим изъяснением Писания, характерно и для названного труда преп. Анастасия Синаита.
Примечательно, что в «Шестодневе» весьма скромное место уделяется толкованию сотворения человека. Вполне вероятно, что это не случайно, ибо такое толкование дается в «Трех Словах об устроении человека по образу и подобию Божию» [13] См. наш перевод: Преподобный Анастасий Синаит. Избранные творения. С. 27–189.
. Вернее, речь может идти преимущественно о первых двух «Словах», поскольку третье «Слово» представляет собою антимонофелитский трактат. В первых же двух гомилиях Синаит оттеняет идею человека как «микромира», состоящего из бессмертной и нетленной души с одной стороны и с другой – из материального тела [14] Идея, которая, кстати, прослеживается и у некоторых других отцов. См., например, у преп. Никиты Стифата, который говорит, что Бог сотворил человека «незлобивым, правильно себя ведущим, беспопечительным, беззаботным, беспечальным, всякой добродетелью и всякими благами блистающим, как бы неким миром, отличным от мира, лучшим и высшим, видимым и мыслимым, смертным и бессмертным, находящимся между величием и ничтожностью» ( Преподобный Никита Стифат. Творения. Т. 1: Богословские сочинения. Сергиев Посад, 2011. С. 20).
. Касаясь собственно темы «образа и подобия», он подчеркивает наличие в человеке образа Святой Троицы, причем это наличие акцентируется в одной только душе этого образа Троицы. Весьма важно, что преп. Анастасий рельефно обозначает ту мысль, что человек вообще и его душа в особенности превосходят, как образ Божий, даже Ангелов. Ибо «последние суть духи служащие и подневольные, а души же святых, которые [удостоились быть] по образу Божию, суть духи господствующие». Особенно это связано с тем, что Бог Слово воплотился, то есть вочеловечился, а не «воангелился» [15] Преподобный Анастасий Синаит. Избранные творения. С. 78–80.
. Из этого вытекает и христологическое толкование образа Божиего: в творении Адама Бог как бы предначертал «образ и отпечатление Своего Воплощения, Рождества и Вочеловечения» [16] Преподобный Анастасий Синаит. Избранные творения. С. 90.
. С христологической интерпретацией образа Божиего тесно увязывается идея обожения: благодаря Христу человеческое естество, «восшедшее на престол херувимский, прославляется всем ангельским воинством, поклоняющимся ему» [17] Там же. С. 108.
. Резюмируя, можно сказать, что рассматриваемые два «Слова» представляют собою замечательный образец святоотеческой антропологии, которая принципиально не может не быть теоцентричной и христоцентричной.
Третьей гранью литературной деятельности преп. Анастасия являются его проповеди. Помимо указанных «Трех Слов об устроении человека», ему принадлежат еще несколько гомилий, частично еще не опубликованных [18] Обзор их см.: Geerard M. Clavis Patrum Graecorum. Vol. III. Turnhout, 1979. P. 455–457.
. В них Синаит проявляет себя не только как талантливый проповедник, достигающий иногда высот поэтического творчества, но и как подлинно смиренномудрый подвижник, постоянным и усиленным покаянием стяжавший небесное любомудрие. Показательно в этом плане одно место из его «Слова на шестой псалом», где он говорит, обращаясь к Богу: «Не дерзаю и не смею испросить у Тебя, Владыко, совершенного прощения моих грехов, ибо грех мой больше, нежели можно отпустить мне. Я согрешил пред Тобою более всякого человека, сверх меры имя Твое святое прогневил. Хуже блудного сына я, блудный, прожил жизнь; более того, кто был должен Тебе десять тысяч талантов, я оказался Твоим должником. Сильнее, чем мытаря, враг [рода человеческого] всего меня обокрал; безжалостнее, чем разбойник, исконный человекоубийца злобно меня умертвил. Дальше блудницы я, любоблудник, отпал от Бога, предавшись блуду» [19] Преподобный Анастасий Синаит. Избранные творения. С. 278.
. Преподобный отец всеми глубинными струнами своей души чутко отзывается на то печальное состояние, как свое личное, так и всего человечества, в которое вверг его прародительский грех, наложив на всех нас бремена неудобоносимые. В «Слове о Святом Собрании» он с горечью говорит: «Велико ослепление наше, велико легкомыслие, велика беспечность. Нет у нас умиления, нет страха Божия, нет ни исправления, ни покаяния, но весь ум наш пребывает в пороке, неге и опьянении. Мы часто целый день проводим на зрелищах, в пустых разговорах и остальных бесовских занятиях, не скучая, но даже забывая о пище, о доме и других необходимых делах; а в церкви Божией, молитве и чтении не хотим и одного-единственного часа побыть пред Богом, но как от огня спешим убежать из церкви Божией» [20] Преподобный Анастасий Синаит. Избранные творения. С. 305.
. Подобный обличительный дух проповедей преп. Анастасия (естественно, не мыслимый без упования на милость Божию) сближает их с гомилиями свт. Иоанна Златоуста и позволяет Синаиту занять достойное место в истории христианской гомилетики.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу