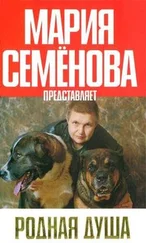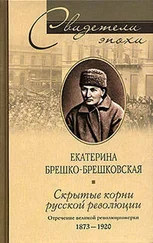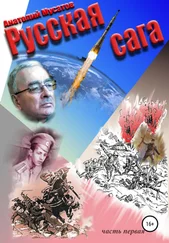Если б ребенок мог тогда перевести на слова свои духовные ощущения, он бы сказал. А теперь приходится говорить о широких, беломраморных, достойных человека, медленно поднимающих его в праздничную высоту, лестницах Зала. О его гулком акустическом просторе и «растворении воздухов», о его тепло-золотистом, как солнце Адриатики, бархате кресел, о его портретах — почему-то особенно любимых Мусоргского и Чайковского (хотя любимыми были и Бетховен, и Моцарт, и Бах, и даже Гендель). Кто бы мог тогда подумать что-то недолжное о красноте носа несчастного страдальца Мусоргского — музыка его вовсе не выдавала предательски его немощей, а вся сияла и звонила миру мощью русской силой и широты. Чайковскому было отдано тогда сердце за «Детский альбом», а вот Мусоргскому — за «Хованщину» и «Рассвет на Москва-реке», который человеку, имевшему счастье родиться почти напротив Кремля и въяве встречать эти рассветы с Каменного моста, не мог не сообщать в одну единицу времени всю русскую историю, начиная с «Повести временных лет», с Татищева, Карамзина, Соловьева и Ключевского разом, все русские картины и виды вместе, и в необозримых объемах — все о сокровенной тайне, о душе и о стыдливой в своем могуществе красоте Родины.
Уже потом, в отрочестве мне приходилось (в охотку!) бегать этими свежими, розовыми майскими московскими утрами — в полшестого и раньше — на ту же Никитскую, в Мерзляковский, чтобы успеть перед надвигающимся экзаменом, до начала занятий порепетировать в зале училища на концертном рояле.
Может ли что-нибудь сравниться с этими московскими рассветами — от Востока, по-за Кремлем возникающими и потом озаряющими и покрывающими всю Москву своей девичьей нетронутой красотой — розоватым прозрачным воздухом?
* * *
Кто сказал, что дети не любят слышать о страданиях? Кто сказал, что их надо от всего горького и скорбного оберегать? От познания пороков — да. Но боль другого человека нормальные, не загубленные духовно дети чувствуют намного сильнее и при том принципиально иначе (впрочем, как и все остальное), чем взрослые. Наверное, этот закон вне возрастной: воспитывает человека боль.
…С раннего моего детства мы с мамой любили вместе читать биографии художников (ведь мама была художник, это только на фронте она была хирургической медсестрой, а до фронта она училась у художественном училище, закончила же Строгановку уже после моего рождения — после войны), композиторов, их письма. И мне это было очень любо. Потому, что они, выплеснувшие в мир несказанные и сладко-мучительные для меня звуки, к которым бесчисленными нитями было повязано как Гулливер лилипутами мое сердце, звуками, выражавшими то, что не сводимо к слову (как личность несводима к природе человека), то, что слышат и чувствуют — не в музыке, а вообще в мире только дети, да и то не все, — они, давно скончавшие свой век, не люди, мне казалось, — но полубоги, становились мне тогда в мои пять-шесть лет настолько близкими, что я могла бы даже сквозь их парадные портреты в Большом Зале угадать следы их детских оспинок.
А болезни их душ я тогда еще не умела опознавать, как не опознавала и отражений этих недугов и страстей в музыке. Восприятие страданий другого было чистым, не подозрительным, безоговорочным. И даже много позднее это первоначальное детское отношение долго сохранялось: когда музыковедческая братия ловко пригвождала «к страстям» композиторов написанную ими музыку, я не уставала за них обижаться, хотя и не знала, что не от них же все-таки была нисшедшей эта музыка, они только «аранжировали ее».
…Неужели сиротливый и больной опавший лес, стоящий поздней осенью нагим, отражает какие-то несовершенства Творения?! И мне не хотелось никогда, чтобы кто-то клеветал на музыку. Человек — это одно. А творение его — другое. У великих и благословенных человеческих творений всегда есть подлинный Автор. Человек же только со-автор — специальная редчайшей породы дерева трость: слушающее и записывающее устройство.
«Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви: язык мой трость книжника- скорописца».
Вот тут-то и подумаешь, что не записать им было самой большой загвоздкой, а — услышать сердцем это «слово благо», этот тишайший Небесный голос. Но все это, конечно, имеет место только в том случае, если музыка рождается правильным, законным, божественным путем, то есть действительно бьет из неземных источников. Вот и Святослав Теофилович Рихтер отвечал, когда его вопрошали о творчестве и его фортепьянных интерпретациях, отвечал строго и четко, предупреждая инсинуации, что он никакой не творец и не интерпретатор, а только исполнитель того, что написано композитором. За этими словами стоит гораздо больше, чем простая житейская скромность. Рихтер знал, что такое есть — услышать композитора, познать записанное в его предельное глубине, полноте, избытке, в его прикровенной сути.
Читать дальше