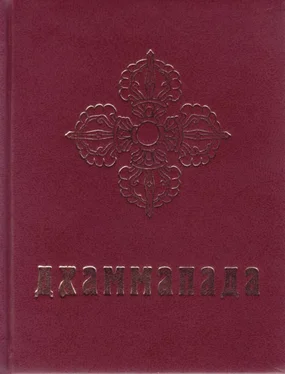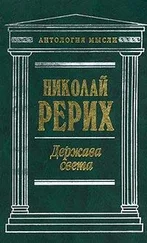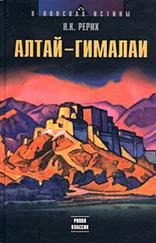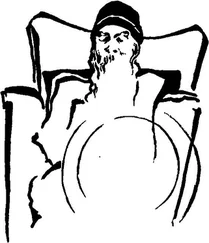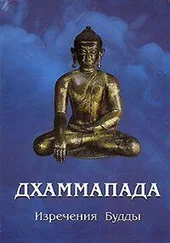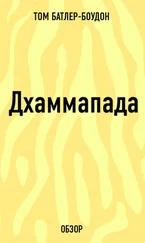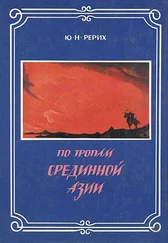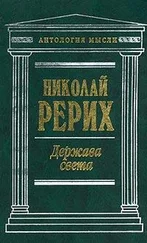«Глава о цветах» — одна из наиболее совершенных в книге. Рассказывают, что в одном местечке жили 500 женщин из брахманской касты. Они имели обыкновение приходить к дереву с красивыми цветами; они срывали их и жертвовали Брахме в надежде, что он поможет им избежать царства владыки смерти Ямы и что они снова родятся на небе Брахмы. Однажды этих женщин увидел Будда и обратился к ним со словами, содержащимися в этой главе. Обращаясь к женщинам, чей кругозор был ограничен брахманскими представлениями и насущными заботами, Будда использует знакомый им круг образов (боги, Яма, Мара; пчела, цветы, названия известных деревьев и т. д.). Простые, но поразительные по образности сравнения, яркая метафоричность способствуют созданию убедительной и высокохудожественной картины. В центре её — образ цветов, данный во всём многообразии ассоциаций и всесторонне обыгранный. Благодаря этому цветы выступают не только как символ греховных желаний, тем более опасный, что он прекрасен (тема бодлеровских «Fleurs du mal», но и в ином значении (как у женщин-брахманок), предполагающем традиционное для фольклора понимание [60] Образ цветов вообще был очень популярен в индийской поэзии (ср. Шантипарва, 6540–6541 и др.).
.
Некоторые формальные особенности этой главы сближают ее с «Главой парных строф» (ср. 44–45,47— 48, 51–52, 55–56), хотя, конечно, степень связанности соседних строф здесь гораздо меньшая.
Этот же приём использован в «Главе о зле» (ср. 117–118, 119–120, 121–122, 127–128), в которой получает дальнейшее разъяснение начатая в предыдущей главе важная мысль о необходимости постоянных усилий на пути к просветлению, а также указывается, что малейшая уступка злу ведёт к гибели.
«Глава о старости» принадлежит к числу самых замечательных мест в буддийской литературе. В ней дано глубоко впечатляющее изображение старости, разрушения, бренности всего живущего. Наряду с этими картинами здесь приводятся слова Будды, направленные против тех, кто легкомысленно и беспечно относится к жизни, не задумываясь о её смысле.
«Глава о своём я» останется непонятной без объяснения одного из наиболее сложных и изменчивых понятий древнеиндийской философии и психологии — атта (atta). В анимистических теориях добуддийского периода, а отчасти и позже под атта понималась душа, описание которой подробно дано в Упанишадах [61] См. Th.W. Rhys Davids, Theory of soul in the Upanishads. — JRAS, 1899.
. Подобные представления, как и понимание атта в значении «сознание», отвергались буддизмом. У Будды были серьёзные основания сомневаться в существовании души, поскольку это противоречило бы закону кармы [62] См. М. Walleser, Das Problem des Ich, Heidelberg, 1903; Th. Stcherbatsky, The soul theory of the buddhists. — «Изв. РАН», т. 13, 1919, стр. 823–854,937 — 958; Н. Gunther, Das Seelenproblem im alteren Buddhismus, Konstanz, 1949; Mahatma Gandhi and Swami Vivekananda, Buddha's Denial of Cod and the Self — «Indo-Asia Culture», vol. V, 1956; С. Радхакришнан, Индийская философия, т. I, М., 1956, стр. 324 и след., и др. соч.
. В буддийской литературе атта чаще рассматривалось не как душа, а как я, которое также составляет проблему, волновавшую буддийских мыслителей. Будда, как известно, боролся с ложным и поверхностным взглядом на сущность я и отвергал реальность индивидуального я и, главное, его постоянство. Видимо, он считал недопустимыми метафизические спекуляции вокруг атта, выходившие за границы опыта. То, что он говорил о я, всегда имело прагматическую направленность и предполагало феноменальное я, данное в опыте. Однако подлинный взгляд Будды едва ли известен. Возможно, что некоторый свет на него проливает эпизод с Ваччхаготтой и последующий разговор с Анандой, содержащиеся в Аггиваччхаготтасутте. При выяснении взглядов Будды на я очень важно не пойти по тому пути, который избрали позднейшие буддийские авторитеты (Нагасена, Буддхагхоша и др.).
В «Главе о своем я» нет философских рассуждений на тему я. Будда, как бы принуждённый участвовать в дискуссии об этом понятии, переводит её в совершенно иной, сугубо практический план. По его мнению, уж если стоит говорить о л, о себе, то только для того, чтобы определить, какое зло или добро может быть связано с я и какую роль играет это я на пути к просветлению. Такой прием снижения высоких понятий, незаметной замены метафизических рассуждений конкретными практическими советами, нежелание вести чисто теоретические споры, которые не могут помочь человеку, характерен для проповедей Будды.
В «Главе о мире» выражен взгляд Будды на мир, порождающий новые желания и привязанности, увеличивающий существование (т. е. способствующий продолжению цепи рождений). Здесь же содержатся предписания относительно жизни в этом мире и противопоставление ему другого мира, к которому нужно стремиться.
Читать дальше