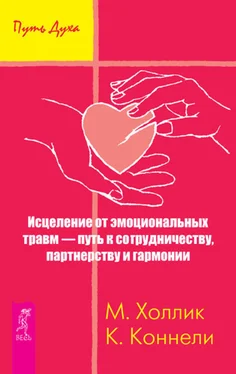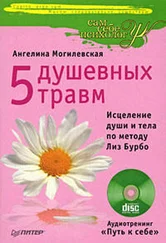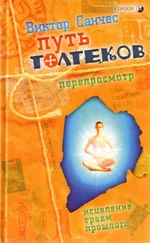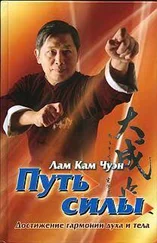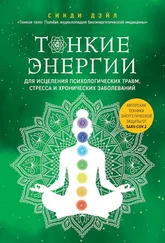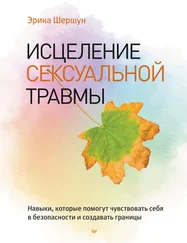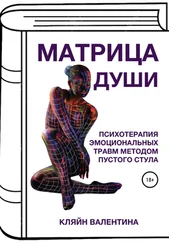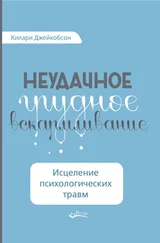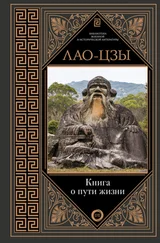Если все это по-прежнему происходит – как можно мечтать о светлом будущем? Чтобы построить это будущее – надежное, основанное на поддержке и сотрудничестве, нам уже сейчас нужно сделать все возможное, чтобы избавить от травм хотя бы детей: реформировать систему образования, на тренингах и курсах обучить родителей правильному воспитанию и обеспечить лечение тем детям, что уже травмированы.
Юность – это время массовых беспорядков в организме: кровь кипит от гормонов, тело развивается физически и созревает сексуально, меняется структура головного мозга – неиспользуемые участки атрофируются, другие же по-прежнему загружены работой. Но если всмотреться в этот беспорядок пристальнее, то окажется, что все идет по схемам, намеченным заранее – в генах, в утробе матери, в колыбели, на детской площадке. Возможно, в них заложена жизнестойкость, которая поможет с легкостью пережить все бури и волнения молодости и зрелости, а возможно – уязвимость перед любыми травмами. Слишком чувствительные настройки системы стрессовых реакций делают человека беззащитным перед травмами, душевными и телесными недугами. И в юности, и в зрелости существует множество потенциальных причин для травм с разнообразными последствиями (см. табл. 1 и 3); некоторые из них более подробно обсуждаются в этой главе и далее.
Распространенность подростковых травм
Согласно данным исследования Кита Оутли, в западном мире различными психическими заболеваниями страдают около пятнадцати процентов подростков [393]. При этом в большинстве диагнозов не учитывался полученный ими травматический опыт, хотя в основе душевных расстройств часто лежит именно он. В США сорок процентов школьников и восемьдесят процентов студентов колледжей сообщают, что до восемнадцати лет пережили по крайней мере одно травматическое событие. Диагностируемые расстройства были выявлены лишь у немногих из них, но не стоит забывать, что и субклинические симптомы часто влекут за собой более серьезные расстройства [394]. Для сравнения: ярко выраженным ПТСР страдают в среднем от двух до пяти процентов американских подростков [395]. Как следует из данных, приведенных ниже, эти показатели еще выше у тех, кто пережил трагедии вроде землетрясений и школьных перестрелок [396].
• Через год после урагана Хьюго из двухсот двадцати семи пострадавших подростков ПТСР страдали до шести процентов, в зависимости от пола и этнической принадлежности; у двадцати процентов наблюдались психопатологические репереживания; а восемнадцать процентов все еще находились в состоянии перевозбуждения.
• Два года спустя после того, как в 1972 году размыв плотины разрушил городок Буффало-Крик, ПТСР было выявлено у тридцати двух процентов пострадавших детей и подростков; еще через пятнадцать лет этот показатель снизился до семи процентов.
• Спустя девять месяцев после пожара, в котором погибли двадцать пять человек, ПТСР страдали двадцать процентов детей и подростков, ставших свидетелями трагедии или потерявших в ней близких.
• У половины подростков, выживших в концлагерях «красных кхмеров» в Камбодже, через шесть лет было выявлено ПТСР, через двенадцать лет – у двадцати процентов.
• Через год после переселения в США ПТСР страдали двадцать пять процентов боснийских беженцев-подростков.
Согласно еще одному исследованию, большинство подростков из бедных кварталов в мегаполисах США постоянно сталкиваются с насилием, включая убийства, и имеют те же стрессовые симптомы, что и дети из районов боевых действий [397]. Но даже эти страшные выводы, возможно, не позволяют увидеть всей проблемы целиком, ведь подростки, как правило, предпочитают не рассказывать о своих травмах, так как не желают вспоминать о вызвавших их событиях или показаться слабыми [398].
Последствия подростковых травм
Как правило, симптомы травм у подростков – это проявляющиеся с задержкой реакции на младенческие и детские переживания. Психоаналитик Борис Цирюльник считает, что эти симптомы осложняются мыслями вроде: «Мне конец. Меня искалечили еще в детстве, а ученые говорят, что это не лечится. К тому же я – ребенок генетически ущербных родителей. Да и с обществом у меня столько проблем, что надеяться не на что» [399]. Однако он же утверждает, что, несмотря на мнение экспертов, сознание подростка остается достаточно гибким и способным к исцелению. Для этого нужны лишь вера и поддержка сверстников и взрослых. Это весьма важное соображение, особенно если вспомнить об «окнах возможностей», о которых мы писали выше. Поэтому травмированных подростков ни в коем случае нельзя обвинять в их собственных несчастьях и списывать со счетов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу