С другой стороны, православное учение выдвигало концепцию единой церкви, объединенной догмой и обрядами, под началом, по крайней мере формальным, Константинопольского патриархата. Такая вселенская направленность еще более укреплялась стремлением династии Романовых и османских правителей поддерживать централизацию церковного управления в своих обширных имперских владениях. Даже если Константинопольский патриарх формально не имел церковной юрисдикции за пределами своего собственного патриархата, Порта признавала его как официального гражданского главу всего православного сообщества империи, и поэтому он имел значительную власть даже над независимыми с канонической точки зрения церковными единицами. И именно властью, данной османским правительством, патриарх смог ликвидировать последние независимые балканские епархии в Пече и Охриде в 1760-е годы [204]. Русская церковь добилась подобного результата, подчинив все православные общины в империи юрисдикции Московского патриарха, а затем – Св. синода. Киевская митрополия была переведена из константинопольской юрисдикции в московскую в 1686 году, а православные институты в грузинских царствах лишились своей церковной независимости в начале XIX века [205]. Конечно, ситуация в двух государствах была совершенно разной, поскольку православная церковь в Османской империи не могла претендовать на равенство с исламом, не говоря уже о «господствующем и первенствующем» положении, которое она занимала в России. Но все же политическая структура большой империи в обоих случаях имела тенденцию придавать большее значение экуменизму, а не партикуляризму.
Распад Османской империи в ходе XIX столетия открыл дорогу для создания ряда новых автокефальных церквей. На самом деле автокефалия обычно следовала по пятам за политической независимостью; как пишет Мария Тодорова, «выделение новых наций из состава империи также означало почти одновременное отделение от Константинопольского патриархата, т. е. от православной церкви Османской империи» [206]. Эти новые случаи автокефалии имели исторические прецеденты. Принцип автокефалии и идея разнообразия внутри христианства, как мы видели, ни в коем случае не были новыми в XIX веке, а в некоторых случаях независимые церковные единицы были ликвидированы сравнительно незадолго перед тем. И все же мы с равным основанием можем признать то, что Пасхалис Китромилидес называет «радикальным прерыванием православной религиозной традиции, которое произошло при “национализации” церквей, последовавшей за приходом национальных государств» [207]. Для многих балканских народов создание национальных церквей было чем-то совершенно новым и требовало использования церковных институтов для достижения современных националистических целей. Наиболее знаменательным в этом отношении было провозглашение автокефалии церковью нового Греческого королевства в 1833 году. В свете прочных связей между греческим обществом и патриархатом и общего греческого господства в православных делах империи этот акт представлял собой знаменательный отрыв от имперской и универсалистской направленности православия в османском контексте. Он также создавал модель для учреждения автокефальных национальных церквей среди других балканских народов [208]. Решительное сопротивление патриархата свидетельствует о том, сколь вызывающе новым представлялся этот феномен, даже если он и не подрывал духовные основы христианства. Только с большой неохотой и значительной задержкой патриарх Константинопольский все же признал одностороннее провозглашение автокефалии Грецией (1833) и Румынией (1865), в то время как учреждение болгарской автокефалии в 1870 году произвело раскол, который продолжался до 1945 года [209].
Болгарский случай оказался особенно острым, он же имеет особое значение для нашего рассмотрения событий в Грузии. Ведь, в отличие от других случаев на Балканах, болгарская церковная автономия предшествовала политической независимости, а не следовала за ней. В результате борьба между национализирующимся болгарским духовенством и церковной иерархией патриархата, в которой преобладали греки, происходила внутри империи, а ее разрешение – политическое, если не церковное – зависело в конечном итоге от власти султана. В то время как умеренные элементы среди греков и болгар искали компромиссное решение, разногласия по поводу территориальной юрисдикции и степени автономии для предполагаемого экзархата оказались непреодолимыми. Болгары стремились устранить любое греческое вмешательство в свои религиозные дела, тогда как патриархат считал полную церковную независимость нарушением канона. Болгары также хотели, чтобы в новый экзархат вошли те части Македонии и Фракии, которые населяли славяне, тогда как патриархат и Греческое королевство категорически стояли на том, чтобы границы экзархата проходили к северу от Балканских гор. Несмотря на опасения, что существование экзархата с четко определенными границами рано или поздно приведет к требованию политической автономии, Порта по ряду причин в итоге встала на болгарскую сторону. В феврале 1870 года султан в одностороннем порядке издал фирман, утверждающий создание нового болгарского экзархата, в то время как патриархат в 1872 году под сильным греческим давлением объявил иерархов и мирян новой церкви «схизматиками» [210].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
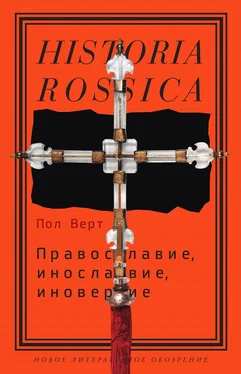





![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)





