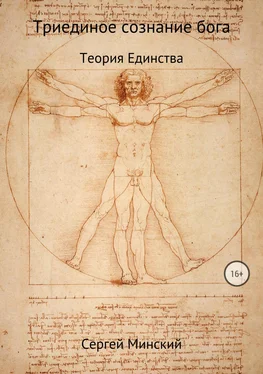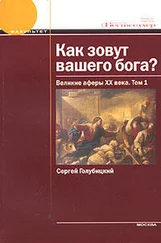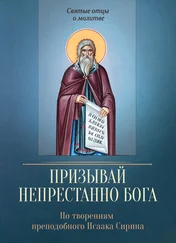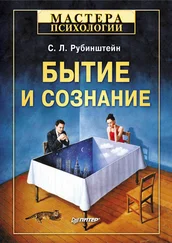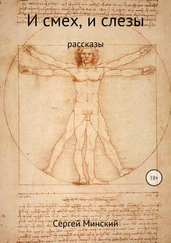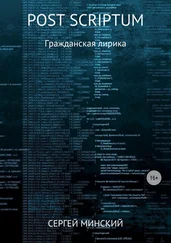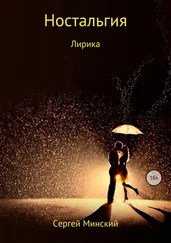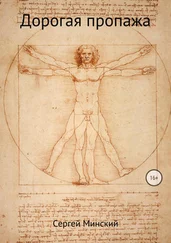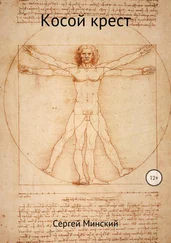В качестве примера можно провести сравнение пещерного человека, перешагнувшего порог эмпирического взаимодействия со средой обитания и начинающего путь смещения сознания в рациональность, с профессором математики, который уже не может обходиться без трансцендентного постижения действительности. Нетрудно догадаться, что нечто подобное наш нынешний средний уровень сознания представляет для людей будущего. И это не сказка: в истории человечества было достаточно личностей, не считая неизбежных в любом деле спекуляций, показавших, на какой неимоверно высокийё уровень сознания может подняться человек.
Итак, мы утверждаем, что нельзя постичь рационально-эмпирическим восприятием того, что выходит за рамки его возможностей. Грубо говоря, это сродни тому, как если бы мы объем попытались измерить плоскостными характеристиками. Для постижения таких величин необходимо подключение еще и трансцендентного аспекта психики.
В чем проблема несостоятельности работы психики в неполном составе? Как только мы пытаемся рационально «увидеть» некую часть целого, «препарировав» его, целое «умирает». Как в сказке, где вместо Жар-Птицы в руках остается лишь перо – осознание того, что ты только что соприкасался с истиной. Теория хаоса, предполагающая «непрогнозируемость» нелинейных систем, не видя их непрерывно-дискретного развития, тем не менее, не отрицает детерминированности системы вообще, заявляя, что следствие процессов зависит от изначального состояния системы. Нонсенс? Или непонятая закономерность, заключенная в невозможности постижения сути развития нелинейных систем линейкой рациональности?
ДИСКРЕТНАЯ ПОСТУЛАТИВНОСТЬ В НАУКЕ
Очень коротко об этом. Сейчас модно стало ругать академическую науку за то, что она инертна, что «не обращает» внимания на многие вещи, которые не может объяснить, опуская их на уровень несуществования. В особенности это касается непонятных на сегодняшний день или паранормальных явлений в жизни общества. В академических кругах не принято, по крайней мере, официально, обсуждать эти темы. Все, что выходит за рамки рациональных представлений, вроде бы и не существует вовсе. Но такова отведенная академической науке роль. Она должна урезонивать массу «выскочек» в их желании поставить все с ног на голову. Неприятие ортодоксальной частью научного сообщества подобного материала растягивает время, давая возможность появиться огромному количеству теорий – «окольных путей», которые увеличивают шанс приближения к истине. В этом есть проявление здорового консерватизма, осуществляющего охранительную функцию и дающего возможность не дойти до полного абсурда в рвении сказать миру что-то «новое». Это неизбежность поступательного развития, ибо консерватизм – одна из крайностей, через взаимодействие которых поддерживается некий гомеостаз в общественном сознании. В качестве примера для понимания гомеостатической роли здорового консерватизма, необходимой для поддержания динамического равновесия, можно привести существование литературных языков. Их сдерживающий фактор позволяет поколениям понимать и быть понятыми друг другом.
Что касается человека, как системы, то приходится признать – каждый из нас на определенном этапе жизни достигает некого потолка восприятия нового. Этот предел является отражением конца аналитической фазы психического развития и диктует неудобство, связанное со сворачиванием системы. Постоянное обновление становится обузой на определенном этапе жизни. А многие деятели науки, связанные корпоративными интересами, подвержены такому эффекту консервации, даже тогда, когда у них еще хватает ума осознавать тот факт, что «их прошлые заслуги уже не могут объяснить новые реалии жизни». Они – представители одной из дискретных частей прогресса, отражающих присущий ей уровень сознания и остающихся в своем научном детстве. Это отражение сути всегда незрелого человечества. Такой болезни, как правило, избегают «свободные художники». Им не нужно, как ученым, связанным внутрисистемными отношениями, отстаивать свои взгляды, сопряженные с потерей статуса и социальных привилегий. И в этом заключается возможность не ходить по кругу в поисках новых экспериментальных подтверждений уже устаревших теорий. Руперт Шелдрейк, раскрывая тему несостоятельности объективности таких научных исследований, приводит утверждение Карла Поппера из его книги «Логика научного открытия»: «Наука вовсе не покоится на каких-то незыблемых истинах. Можно сказать, что смелая теоретическая конструкция возвышается над болотом, подобно зданию, возведенному на сваях. Эти сваи поднимают здание над окружающим болотом, но не являются его естественным основанием». И добавляет: «Вполне может оказаться, что постоянство «фундаментальных констант», долгое время считавшееся природным основанием величественного здания науки, в действительности не что иное, как «свая в болоте».
Читать дальше