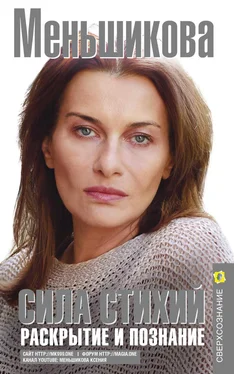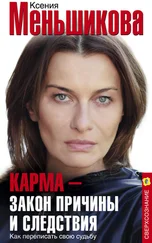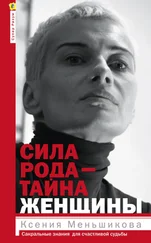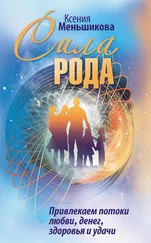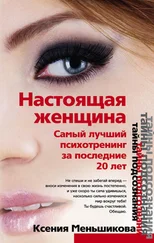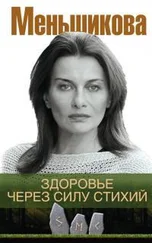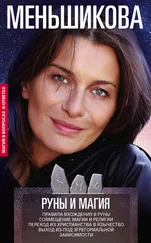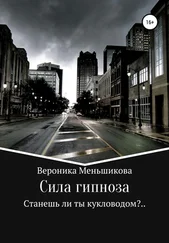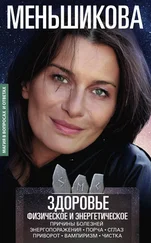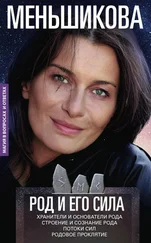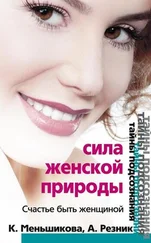Однако в целительстве есть ещё одно правило, но оно имеет отношение уже к природной специфике свойств сознания целителя. Это такая особенность, которой, увы, научиться невозможно. Она либо есть, либо нет. Вот об этом особенном свойстве и пойдёт речь дальше.
Истинных целителей рождается крайне мало. Не всякий объявляющий себя целителем на самом деле является таковым. Потому что у истинного целителя есть в психике одна странность, которая и предопределяет его дальнейший путь: целитель не может воспринимать болезнь иначе, чем своего природного врага. Это такое животное чувство, которое невозможно игнорировать или стереть из ментала никакими установками. Враг должен быть уничтожен. Смотреть по-другому на неправильность этого мира с позиции взгляда на болезнь он просто физически не способен. Как чистюля не может пройти мимо брошенной бумажки. Как женщина с обострённым материнским синдромом не может не реагировать на плач ребёнка. Так и истинный целитель – он не может пройти мимо болезни, не может игнорировать её присутствие.
Это качество сознания в целителе присутствует всегда, берётся ниоткуда и уходит в никуда. По наследству оно не передаётся, хотя единично такие случаи бывали, но это не система. Это дар от магии, который исходит от неё и ею же забирается обратно. Дар, как специфическая программа сознания, свойство души, которое способно подчинить себе все другие программы разума, все другие душевные особенности и предпочтения. Истинному целителю совершенно всё равно, платят ему за его деяния или не платят, просят его решить вопрос или не просят. Он физически не может пройти мимо «неправильности», его перекручивает от несовершенства реальности и от искажения проявленного бытия, каковое олицетворяет собою болезнь.
Эгрегориальное пространство и люди, обременённые морально-этическими нормами, на такого человека всегда смотрели и будут смотреть как на дурачка. Потому что мотив, который им движет, эгрегориально зависимым людям непонятен совсем. Целитель не алчет славы, не гонится за богатством, не ищет защиты и поддержки сильных мира сего. То есть не добивается всего того, чего можно достичь, если делать свой талант или какую-то другую особенность личности более выпуклой, более феноменальной, чем у всех прочих, и правильно её показывать . Так всегда поступают те, кто живёт под эгрегорами, следует эгрегориальной моде и движим коллективными идеями, полагая, что это личные особенности собственного сознания.
Те, кто не испытал на себе силы магического дара, никогда не поймут того, кто испытал. Однако для эгрегориального человека наличие в поле внимания того, кто совершенно независим от эгрегоров и не считает нужным это скрывать, очень раздражительно. Это чувство порой переходит в ненависть – оно иррационально, лежит на подкорке и никакими ментальными обоснованиями не подкрепляется. Подобно комару, который ещё не кусает, но убить его уже хочется, потому что своим жужжанием он обостряет чувство внутреннего бессилия. Уязвимость, которая не объяснима логикой, которая обостряет зависимость от малого и незначительного – от того, что большой и сильный, эгрегориально согретый разум почему-то теряется перед тем, чего не понимает.
Именно такое иррациональное чувство собственной уязвимости и бессилия, подсознательного понимания показушности своей религии и противоречивости общего мировоззрения и идеологии было свойственно людям Средневековья в эпоху костров. Те больные, которых пользовали целители и целительницы «по природе», те, чьи жизни были спасены от болезней, от которых умирали остальные, почему-то первые выступали на обвинительных процессах, бросали камни в ещё живых своих спасителей, обрекая их на унижение, боль и смерть. Так их испуганный разум пытался доказать правоту своего убогого религиозного страха; доказать самому себе, что отсутствие у него магического дара – это не порок, а благо; доказать, что тот, кто таким даром обладает, совсем не выше меня, а ниже – он проклят, проклят, проклят.
Дар целительства, после всех испытаний, приобрёл иммунитет и способность таиться. Он научил своих носителей осторожности, но не умалил свою силу, не лишил целителя главного качества сознания: болезнь – это враг.
Каким образом природный, истинный целитель определяет болезнь? Через определение стихийного дисбаланса – он его остро чувствует. Остро чувствует нарушение стихийного равновесия. Состояние другого человека воздействует на поле внимания целителя и внезапно делает «перекошенным» самого целителя – последний мгновенно распознаёт то, что искажает его внутреннюю пустоту. Но болезнь – это не просто стихийный дисбаланс; он превращается в реальное поражение, когда существует долго, очень долго. Настолько долго, что успел проецироваться на физическое тело, пустить корни, прорасти глубоко. Подобно омеле, которая, попадая в дерево, вырастает не сразу, а лишь через несколько лет инкубационного периода, когда бороться с ней уже бесполезно. Так болезнь видит врач – когда омела уже проросла, когда опутала крону, когда уже изменила генетическую структуру дерева, когда она уже является неотъемлемой частью его. Целитель видит болезнь на уровне внедрённого зерна [25] Пользуясь этой аналогией, добавлю, что маг более высокого уровня видит болезнь, как омелу, на уровне птицы, которая переносит её зерно, – ещё на подлёте.
, ещё до того момента, когда оно начнёт менять само дерево, до проявления «гнезда омелы».
Читать дальше