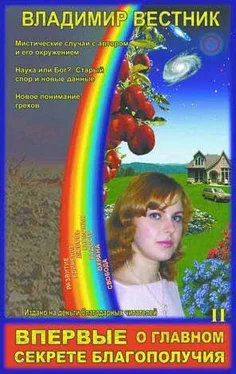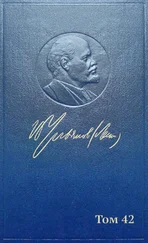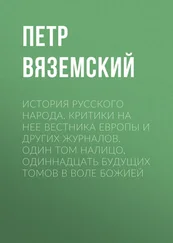Гуляя по двору, под темными голыми ветвями смородины заметил лягушку, вяло передвигающуюся по темной влажной земле. Небольшая — длиной с мизинец. Вся измазана землей так, что и непонятно какого она цвета. Хотя нет, одна коленка чистая, цвета свежего темно-зеленого огурца. Видимо, только что вылезла из земляной норки, разбуженная теплом весеннего солнца. Остановилась. Наверное, еще не до конца проснулась.
Рановато она из норы вылезла. Еще холодно. Я, присев на корточки и склонившись, дунул на нее. Она сделала вялый шаг и застыла. Дунул еще раз. Она не отреагировала, видимо решив, что долг вежливости уже отдала своей первой реакцией. Конечно, сейчас для нее главное — согреться в солнечных лучах. Небось, радуется — дождалась весны. Хотя вряд ли ей пришлось особо томиться в ожидании. Всю зиму беззаботно дрыхла в забытье без сна в своей тесной норке. Это мы, люди, бодрствуя, ждем весну чуть не всю зиму.
Вот и Он — мужчина из соседней деревни, наверное, радовался наступающей весне. Я не смог подобрать ему псевдоним. Не хотелось обидеть никого, у кого окажется такое же имя, как использованное в этом рассказе. Поэтому решил обойтись без имени, назвав его Он. Он совсем немного недотянул до весны. Вчера были его похороны. Я не был на них: не настолько был близок к нему, чтобы присутствовать.
Все местные его хорошо знают: он часто здесь подрабатывал у дачников. Его смерть удивила всех. Ничем серьезным вроде не болел. Ходил, шутил, хамил, работал — все как обычно.
Я бы поведал обо всех деталях дела. Но ведь если опишу в точности все обстоятельства, его родные могут узнать обо мне. Не разобравшись, обвинят в его смерти. Окружающие вспомнят другие смерти, катастрофы и болезни наших краев, хотя, конечно же, они в основном не связаны со мной. Дадут ли после этого спокойно жить здесь дальше? Ведь, по незнанию решат, что я, не иначе, как черный колдун. Поэтому суть дела расскажу в самых общих и несколько измененных чертах. Имена, конечно, тоже изменены.
Ему было за пятьдесят. Крепкий, коренастый, так сказать, деревенской закваски. Держался обычно деловито, спокойно и важно. Отличался жадностью. Причем жадность эта была примитивной, какой-то слишком уж откровенной до неприличия. По недостатку житейской мудрости эта жадность зачастую выходила ему же боком, оборачиваясь убытками, даже превосходящими тот излишек, который удавалось неправедно и некрасиво перетянуть к себе.
Он всегда вытягивал максимум возможного из тех, кто обращался к его услугам и старался при этом недодать этих услуг, под любым предлогом не отдать сдачу при расчетах, объяснив, что и ее он, вообще говоря, заработал.
Было видно, что его душу грел сам факт того, что удалось урвать лишнее, не соответствующее его трудовым затратам. И этот излишек, который он всегда старался создавать либо завышением цены, либо недоделками, имел для его души значение, чуть ли не большее, чем весь объем честно заработанных денег. То, что хорошая репутация и честность могут быть выгоднее вороватого крохоборства, было явно выше его разумения. А может, брал верх присущий ему воровской азарт. Хотя нельзя сказать, чтобы воровством занимался всерьез.
Естественно, он не позволял себе просто так проходить мимо того, что плохо лежит. Иногда проводил осторожные вылазки по негласной приватизации чужого. Особых богатств таким путем себе не нажил. В основном, все-таки имел доход за счет труда. В целом, по деревенским понятиям, хозяйство имел крепкое. И семья была добротная: жена, дети, внуки.
Все люди у него были четко поделены на своих, к кому он мог проявлять вполне человеческое добродушие и на чужих — тех, к кому он с легкой душой позволял себе относиться наплевательски. Чувствовалось, что хамство являлось для него одной из радостей жизни. Но не всем подряд хамил, а избирательно.
Выросший в деревенской семье, он, конечно, был приучен к общепринятым в деревне естественным нормам общения, мог добродушно общаться и улыбаться. К своим, к которым относились и просто некоторые из знакомых, но почему-то мало кто из родственников, он проявлял вполне человеческую, трогательную заботу и добродушие. И они, разумеется, воспринимали его как исключительно положительного человека. Незамысловатая обывательская логика: раз хорошо ко мне относится, а однажды даже помог, стало быть, прекрасной души человек.
Но когда он имел дело с кем-либо из тех, кто не входил в число своих, чувствовалось, что его неутомимый внутренний калькулятор скупо подсчитывает не только деньги, но и отдаваемые крохи душевного тепла. Обычно люди умеют маскировать свою жадность, придумывая разного рода обстоятельства, компенсируя материальную жадность щедрым проявлением показного добродушия, вежливостью и улыбками. Он же был слишком прост, чтобы утомлять себя подобными «излишествами». Вот и получалось, что и в проявлении добродушия он соблюдал принцип «ни крошки не своим». Он словно бы опасался чего-то потерять, лишний раз улыбнувшись или сказав доброе слово не своим.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу