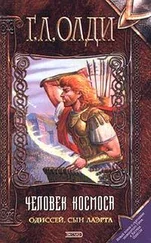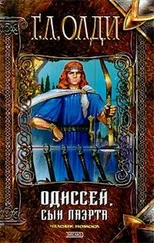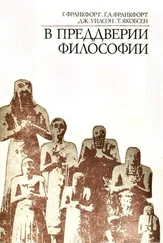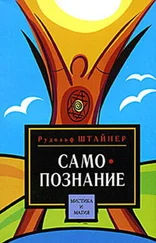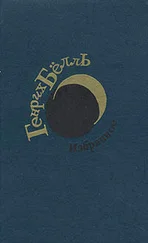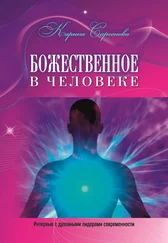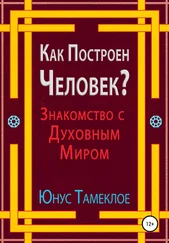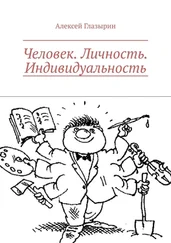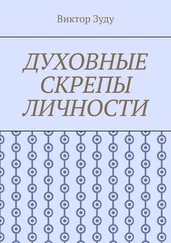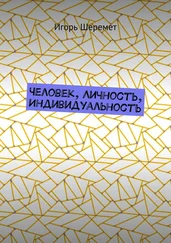Требуется уточнить, что положение о пассивности потешных людей в народном эпосе относится к разряду нестрогих номинальных уложений сравнительной филологии - метода, которым изучается народный эпос, когда он положен объектом познания. И тот же А.Н. Веселовский, русский кудесник этого метода, излагает взгляды, лишённые этой односторонности: "Бесправные юридически, гонимые церковью, эти бродячие певцы были, тем не менее, вхожи в народ, являлись на его игрища, свадьбы, пиры, турниры, похороны и т.д.; носители культурного предания, чуждого, заповедного, и вместе близкого по уровню к духовному кругозору народа, эти потешные люди не могли не повлиять на его содержание; к их почину восходит, быть может, не одна заговорная формула, сложившаяся на почве римско-византийского мира и доживающего свой век в северной Европе"(2001, с. 693). Приниженность положения потешных людей в обществе является неискоренимой универсальной особенностью этого сорта людей, но если пренебрежение к потешным людям в социальном сообществе ("юридическое бесправие") не должно удивлять, ибо в социуме духовные ценности никогда не пользовались приоритетом, а потешные люди никогда не создавали материальных ценностей, то вражда к людям этого типа со стороны церковного конкордата, изначально обряжённого в тогу духовного лидера общества, кажется парадоксальной.
Все авторитеты сравнительной филологии сходятся в том, что исторические истоки народного эпоса гнездятся в первобытных групповых упражнениях - "игрищах", "гульбищах", "скопищах", "капищах", где масса людей связывается единообразным или одинаковым действием, приобретшим со временем вид ритуала, а само связывание было закреплено в обрядовой традиции каждого народа. A priori ясно, что любой обряд - это сигнал единения или ранг духовности . Когда религиозное верование развилось до политической доктрины, организованной в церковь , а особенно, когда церковная организация превратилась в основу государственности, обрядовая служба стала необходимостью для церковной идеологии, ибо ничто не может так сплотить людские души вокруг церковной доктрины, как обряды. И потому по пышности, пафосу и патетике с христианской обрядово-ритуальной службой мало что может сравниться.
Этот момент, выводящий различие между "народной" и "церковной" духовностями, является отличительной особенностью русской школы сравнительной филологии, возглавляемой А.Н. Веселовским, и он разъясняет: "В основе греческой драмы лежат обрядовые хоровые песни, вроде наших весенних хороводов; их простейшее религиозное содержание обобщилось и раскрылось для более широких человеческих идей в культе Диониса; художественная драма примкнула к этой метаморфозе народного аграрного игрища. Обратимся на Запад. И здесь существовали народные хороводы, простейшие основы драматических действ, но дальнейшего развития на этой почве мы не видим; если были зародыши соответствующего, обобщающего культа, то они заглохли, не принеся плода. Явилась церковь и создала из обихода мессы род духовной сцены - мистерию; но она лишена была народной основы, которая питала бы её и претворяла, развиваясь вместе с догматом и выходя из него: церковная основа явилась со стороны, нерушимая, не подлежащая развитию". Потому-то сам факт существования потешных людей был не только чужд, но и враждебен для церковной догматики и демагогии, и эта последняя направляет на них всю мощь своего идеологического воздействия, объявляя первородные и коренные народные обряды языческими, хотя в действительности ничего подлинно языческого (заведомо недуховного), за исключением обрядов жертвоприношения, в них не было, а враждебными, языческими они стали потому, что были нехристианскими. Потешные люди уже по самой своей природе ходили на грани церковной ереси, и Веселовский отмечает: "Своей деятельностью они навлекли на себя в IV в. нарекания отцов церкви. Мим представляется последним непременно в качестве язычника, а мима - в роли блудницы. Они лишены были права наследства, права быть свидетелями в суде, церковь отказывала им в предсмертном напутствии, что не мешало мимам быть любимцами народа...Церковь явилась открытым врагом шпильмана, звание которого причислялось к крайне греховным. Она громила его своей проповедью, постановлениями соборов, не допускала до причастия и лишь в исключительных случаях дозволяла ему приобщиться христовых тайн, - под условием не заниматься своим ремеслом за две недели до причастия и столько же спустя" (2001, с.с. 721, 689, 692). Благосклонное отношение к потешным людям входит в число признаков, отличающих православный, русский, обряд от католического, европейского.
Читать дальше