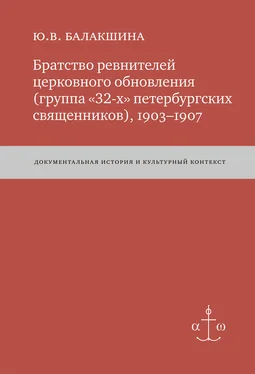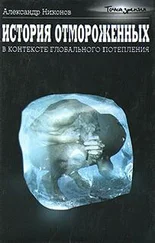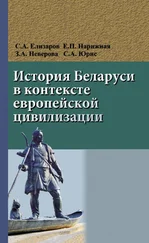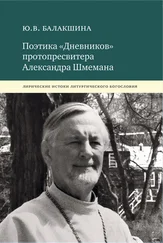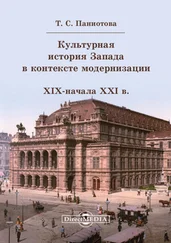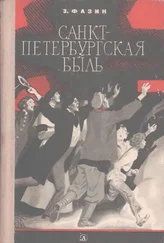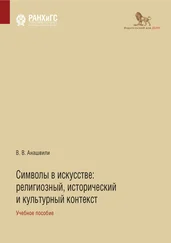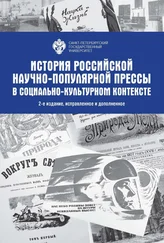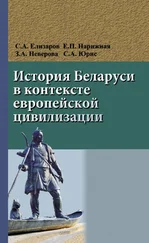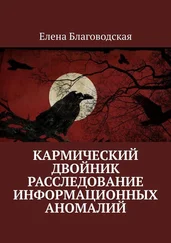Во многом такой образ христианства мог возникать из-за того положения, которое церковь занимала в Российском государстве. Идея симфонии церкви и государственной власти, унаследованная Россией от Византии, в результате реформ Петра I обрела воплощение в так называемой «синодальной системе». Согласно «Духовному регламенту» 1721 года Русская церковь стала составной частью государственного устройства, а Святейший Синод – государственным учреждением. 11 мая 1722 года Петр I издал указ, в котором повелевал «в Синод выбрать из офицеров доброго человека, кто б имел смелость и мог управление синодского дела знать, и быть ему обер-прокурором». С этого момента до 1917 года Синод, а значит и всю Русскую церковь, возглавлял не поставленный церковью на это служение епископ, а государственный чиновник. Церковь была обязана исполнять чисто государственные функции, следить за благонадежностью своих духовных чад. Так, согласно совместному указу Сената и Синода от 16 июля 1722 года «приходские священники обязывались вести списки прихожан и поименно отмечать приходящих к причастию, равно как и уклоняющихся от исповеди», причем «последние подлежали наказанию» [9] Цит. по: Смолич И. К. История Русской Церкви. Кн. 8. Ч. 1: 1700–1917. М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. С. 105.
. В результате, в процессе длительного существования под опекой государства, Русская церковь стала утрачивать качества, неотъемлемо присущие церковному организму.
Церковь, отчасти выполнявшая полицейские функции, в угоду государству оправдывавшая войны и казни, не могла не вызывать резкого неприятия у русской интеллигенции, в большинстве своем антигосударственно настроенной. Так, Л. Н. Толстой в своей «Исповеди» писал: «И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся» [10] Толстой Л. Н. Исповедь (Вступление к ненапечатанному сочинению) // Он же. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928–1964. Т. 23. С. 56.
.
Помимо противоречий, возникавших между церковью и образованным сословием исключительно на русской почве, нужно назвать и ряд более общих проблем, связанных с магистральными путями развития новоевропейской культуры. В XVII веке в Россию из Западной Европы начинает проникать культ науки, образования, секулярного знания. Церковный смысл понятия «просвещение», как таинства духовного преображения человека Божественным светом, вытесняется светским: только знания, науки, просвещение открывают человеку главное – добродетель. При этом, как отмечает А. М. Панченко, «в глазах “новых учителей” русская культура – это “плохая” культура, строить ее нужно заново, как бы на пустом месте» [11] Панченко А. М. История и вечность в системе культурных ценностей // Он же. Я эмигрировал в Древнюю Русь: Россия: история и культура: Работы разных лет. СПб.: Звезда, 2005. С. 122.
. На протяжении всего XIX века ревностные сторонники европейского просвещения обвиняли церковь в «мракобесии», «защите кнута», «диком невежестве», «обскурантизме». Так, например, В. Г. Белинский в своем знаменитом письме Н. В. Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» 15 июля 1847 года писал: «.. вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение» [12] Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. Т. 10. С. 213.
. Безусловно, полного раскола национальной культуры в России не произошло: светская культура продолжала питаться из церковного источника смыслов и образов, церковная словесность с конца 1830-х годов равнялась на светскую в языковом отношении, – но в конечном итоге приходится констатировать, что церковь в XIX веке не владела тем понятийным, философским, культурным языком, который позволил бы ей ответить на запросы алчущего духа образованных людей того времени. Когда в 1901–1903 гг. на религиозно-философских собраниях богоискательски настроенная интеллигенция встретилась с просвещенным православным духовенством, 3. Н. Гиппиус отметила: «Это были воистину два разных мира. Знакомясь ближе с “новыми” людьми, мы переходили от удивления к удивлению. Даже не о внутренней разности я говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке, все было другое, точно совсем другая культура» [13] Гиппиус 3. Н. Первая встреча: К истории Петербургских Религиознофилософских собраний 1901–1903 гг. // Наше наследие. 1990. № 4. С. 68.
.
Читать дальше