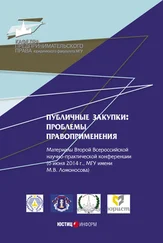Специфика Предания не исчерпывается только сложностью фиксации. Его фундаментальная особенность состоит в том, что Предание оказывается решающим измерением, в котором концентрируется и одновременно проверяется на подлинность опыт пребывания в единстве и деятельном взаимодействии человека с Богом. Предание выступает как бы финальным подтверждением реальности богочеловеческого бытия. Именно Предание удостоверяет, что наши усилия исполнить Откровение, которыми наполняется и продолжается опыт Писания, узнаны и приняты Богом. Это подтверждение приходит каждый раз через возросший опыт взаимной проникнутости бытия Божьего и человеческого. Этот опыт к тому же не просто открыт дальнейшему событию возрастания, но и непременно предполагает такое продолжение. Предание богочеловеческого бытия не может ни остановиться, ни исчерпаться.
Тут кстати будет вспомнить идею о том, что Предание Церкви – это чистая динамика, живой поток, который лишь как-то кристаллизуется в исторически изменчивых формах. Его темным двойником выступает статичность, самоуспокоенность, переходящая в самодовольство обладания истиной [5] «Предание всегда продолжается., и ныне не меньше., чем прежде., мы живем в Священном Предании и его творим» (Булгаков Сергий., прот. Православие: Очерки учения Православной церкви. М.: Терра, 1991. С. 77). «Церковное предание есть не статика., но динамика., оно оживает для нас в огне нашего собственного воодушевления» (Там же. С. 89).
. При этом динамизм христианского Предания совсем не означает чистой текучести. Предание имеет строгую и однозначную направленность: оно устремляет сердце, исполненное «опьяненного трезвения» (свт. Григорий Нисский) навстречу Богу. Предание тем самым – это напряженное ожидание и приготовление присутствия Бога, а значит, оно абсолютно эсхатологично.
Если бы мы хотели указать на наиболее важное отличие Предания от любой формы этнокультурной традиции как совокупности обычаев, то оно состояло бы именно в однонаправленной векторности, теоцентричности и эсхатологичности. Предание поэтому не воспроизводство порядка существования, а подлинная жизнь, т. е. возрастание, аккумулирующее опыт сопричастности нашего бытия с жизнью Бога. В этом качестве аккумулирующей эсхатологичности Предание христианства существенно отличается даже от философски ориентированного бытия. Последнее безусловно создает творческое поле жизненного усилия, но оно лишено христианской силы наращивать опыт достоверности сопребывания с истиной, не говоря уже об эсхатологическом движении к встрече с ее полнотой. Нам открыта жизнь как путь, и его парадокс в том, что это путь жизни в уже переживаемой полноте при абсолютной невозможности этой полнотой обладать.
Тогда помимо динамического характера мы должны указать на еще одно фундаментальное свойство Предания. Оно для народа Божьего есть высшая форма творческой активности. Поскольку оно аккумулирует опыт преодоления косности первозданной материи в пользу чистой созидающей активности духа. В этой преемственной последовательности творческого переустройства всей нашей совместной жизни и происходит становление области единого бытия творца и твари.
Естественно, акцентирование динамизма Предания не отменяет темы соотношения Предания и конкретных материально оформленных практик с закономерными вопросами: чем обеспечивается единство Духа и практик при широкой вариативности последних; и как устанавливается соответствие различных форм этому духу живому. В рамках именно этих соотношений мы и сталкиваемся с явно недостаточной проговоренностью, которая оборачивается специфически конфессиональной православной уверенностью, что названные соответствия осуществляются автоматически. Соответственно здесь и кроется риск превращения Предания в обычай (привычку) что создает теологическую, идеологическую и психологическую основу для фундаментализма – самодовольства от мнимого обладания истиной, которое часто сопровождается агрессивным сопротивлением какому бы о ни было движению, тем более творческому созиданию.
Но надо признать, что если к описанию жизни Церкви и применим термин «консерватизм», то только лишь в одном смысле – когда он обозначает бережное отношение к любому подлинному опыту Богопознания, и опасение, как бы не было вычеркнуто из духовной памяти ничего ценного. Deus conservat оmnia («Бог сохраняет все» ( лат. ). – Ред. ) – вот единственное приемлемое толкование православного охранительства. Однако такое толкование предполагает максимальную инклюзивность, ведь у Бога может быть принято и даже привечено то, что никогда не придет на ум без творческого усилия нам, увы, пока еще смертным. Вспомним, что Господь не просто творит все новое, Он в своей творческой активности еще и всякий раз непредсказуем. Весь Новый Завет есть преодоление вполне благочестивых стандартов, о которых в частности так ревновали фарисеи. А разве они не мнили себя хранителями Предания, хотя на поверку оказались блюстителями недостоверных преданий то ли действительных, то ли вымышленных старцев?
Читать дальше
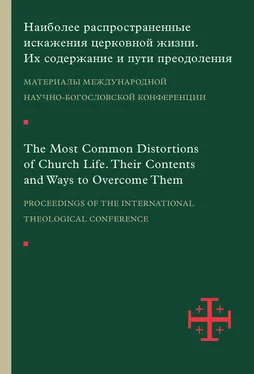
![Коллектив авторов - Испытание реализмом [Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова - традиция и новаторство» (к 60-летию писателя)]](/books/402269/kollektiv-avtorov-ispytanie-realizmom-materialy-nauchno-teoreticheskoj-konferencii-tvorchestvo-yuriya-polyakova-tradiciya-i-novatorstvo-k-60-letiyu-pisatel-thumb.webp)