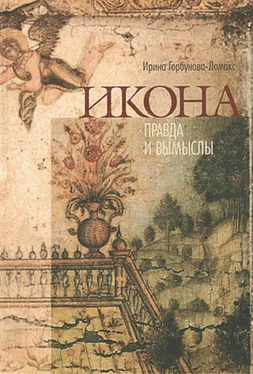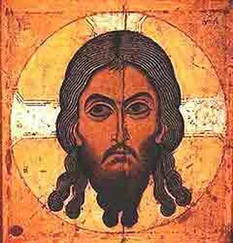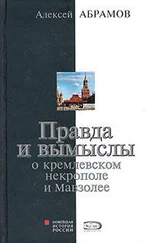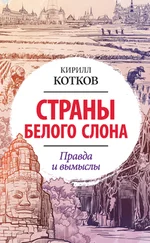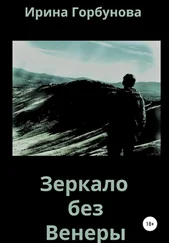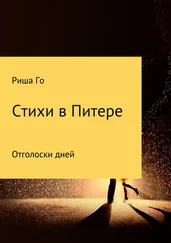– Но как же быть с образом, например, св. Серафима Саровского, который жил в XIX в. и таким образом никогда не бывал изображён в византийской манере? – попытались мы воззвать к здравому смыслу.
Парижанка без запинки отвечала, что в этом случае следует писать икону по словесному описанию, и вообще сходство не так важно, как святость, – а пишущий икону с фотографии, с живописного портрета или, ещё хуже, с натуры, непоправимо повреждает святость.
Удивляясь столь глубоким познаниям нашей гостьи (номинально она принадлежала к Римо-Католической Церкви, хотя, по её признанию, уже давно «не практиковала»), мы поинтересовались источником оных. Вразумительного ответа мы не получили – оказалось, что попросту «это всем известно», «это носится в воздухе».
В парижском воздухе носилось ещё много удивительных теологуменов о русской иконе. Например, мы, с матушкой во главе, тяжко согрешали, пользуясь готовыми пигментами (нас обличили пузырьки с этикетками «Сеннелье» и «Виндзор энд Ньютон»). Нам следовало вместо этих лишённых всякой духовности искусственных продуктов собирать разноцветные камешки и растирать их в порошок, затем что только таким образом мать-земля приносит свои минералы в дар Богу. Наши робкие заверения в том, что готовые пигменты тоже суть самого земного, а не марсианского происхождения, гостью не убедили. Затем осуждению подверглись и наши фарфоровые палитры (оказалось, пигменты следовало растирать пальцем прямо в яичных скорлупках), и прозрачный современный лак для покрытия икон (оказалось, что подлинной святостью обладала только олифа). Благонадёжными оказались только сами яйца – по счастью, мы покупали их здесь же в деревне, хотя не из богословских соображений, а за их особую свежесть и жирность. Страшно представить себе, что осталось бы от нашей репутации, если бы и яйца оказались ненастоящими, магазинными…
По окончании досмотра «вещественного» гостья поинтересовалась и духовной стороной, т. е. текстами особых молитв, которые мы должны были читать за работой, и сражена была наповал, узнав, что никаких особых молитв мы за работой не читаем, да и не знаем: в приходском доме читается только утреннее и вечернее правило, в воскресные и праздничные дни мы посещаем храм, регулярно причащаемся. А за работой – это уже каждый сам для себя решает, молиться ему или нет и как именно. На это нет предписаний, и никаких «секретных текстов» в наших молитвословах не найти.
За всеми этими дотошными расследованиями поговорить об иконописи как таковой времени не нашлось, да, собственно, художественная сторона нашей работы и не интересовала гостью. Её интересовала – подлинность, а критерии этой подлинности ей были известны лучше нашего. Впрочем, несколькими перлами парижской премудрости она успела с нами поделиться. В частности, письмо ликов на наших иконах она нашла недопустимо светлым – в настоящих иконах ликам надлежало иметь глинистый оттенок, в знак того, что Адам был вылеплен из глины.
– А как же с просветлённостью ликов святых и Самого Господа? – удивились мы.
– Это нужно понимать в духовном смысле! – парировала гостья. Но, так как нам оставалось неясным, почему глинистость нужно понимать в буквальном смысле, а просветлённость – в духовном, она прибавила: – Просветлённость выражается в том, что в иконе нет теней!
– Как нет теней? А это что? – указали мы на репродукцию знаменитой Владимирской Божьей Матери. – Вот тени под бровями Богородицы, под подбородком, вот тень от Её носа…
– Это всё собственные тени, а не падающие! Я говорила о падающих тенях – где здесь они? – торжествующе заявила гостья.
Я взяла кисть и поставила её торчком на ладонь. Кисть отбросила длинную тень.
– Это какая тень, по-вашему? – спросила я специалистку по просветлённости.
– Падающая, конечно!
– А это? – я убрала кисть и вместо неё упёрлась в раскрытую ладонь пальцем другой руки, так что он отбросил точно такую же тень.
– Падающая! – засвидетельствовала гостья.
– Вы уверены? Ведь это моё тело, просто руки разные… Но вот я просто подниму указательный палец, чтобы он отбросил тень на «свою» ладонь, – какая это будет тень?
Гостья засопела. Граница между падающими и собственными тенями на практике оказывалась не такой резкой, как в тех лекциях или трактатах, по которым она знакомилась с иконой. Там всё было так понятно, так доступно…
– Ну, знаете, вся эта ваша оптика и физика ничего не доказывает. Я говорю о духовном смысле иконы! – вывернулась она наконец.
Читать дальше