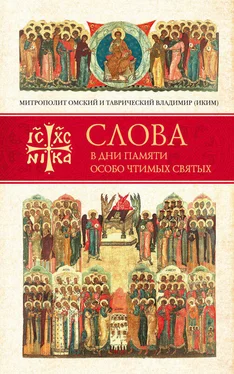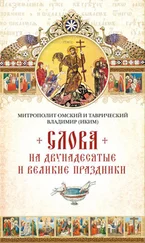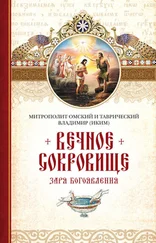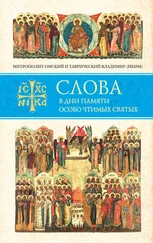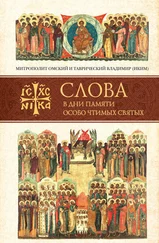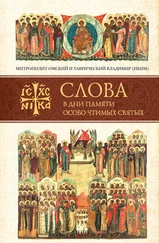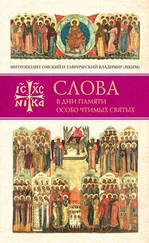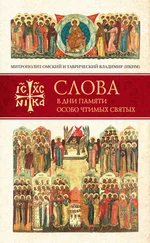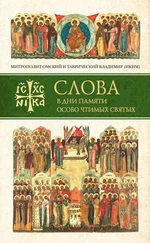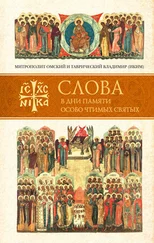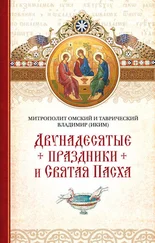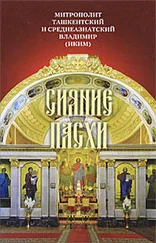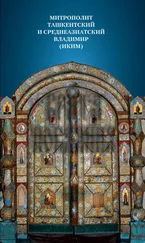Стоит вспомнить, что наши дети на самом деле не столько наши, сколько Божии, так же как и мы сами. Господь на некоторое время доверил нам их воспитание, подарив нам, по великому милосердию Своему, удивительную возможность соработничества Ему в процессе создания и формирования нового человека, – но все же настоящим Отцом является только Он. И этот Отец в Своей великой любви дает каждому из Своих детей свободу воли, свободу выбора – так кем же мы мним себя, покушаясь на эту свободу?
Конечно, если наши дети хотят совершить нечто греховное, мы должны постараться удержать их от этого. Но если их выбор в той или иной сфере жизни противоречит не Божиим заповедям, а всего лишь нашим собственным планам, желаниям, вкусам – нужно просто принять его, как выбор взрослого человека, взрослого христианина. Возможно, именно в этом и состоит их истинное призвание, следуя которому они смогут послужить Богу. Посмотрите – юноша Иоанн ослушался родителей, но этот его поступок принес добрые плоды, дав миру удивительного подвижника. А что было бы, если бы отцу Иоанна все же удалось бы настоять на своем, удержать сына от ухода в монастырь? Вероятно, и в этом случае Иоанн прожил бы жизнь добродетельную – но вряд ли совершил бы столь же славные дела и сыграл бы столь же великую роль в жизни Церкви и своего отечества…
Итак, Иоанн – теперь уже инок Иов – начал подвизаться в Старицком монастыре уже не как воспитанник и послушник, но как один из братии. Несмотря на молодость, он вскоре весьма преуспел в монашеских подвигах и добродетелях и стяжал всеобщие любовь и уважение. «Во дни же его не обретался человек подобен ему ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни поступью, ни вопросом, ни ответом… Дарование Божие бысть ему паче же прочих человек», – вспоминают современники о монахе Иове. Со временем Иов был поставлен настоятелем Старицкой обители, в 1581 году рукоположен в епископский сан на кафедру подмосковного города Коломны, в 1586 году стал архиепископом древнего и славного Ростова Великого, а затем и митрополитом стольного града Москвы, то есть Предстоятелем всей Русской Церкви. Несмотря на столь значительное возвышение, святитель Иов не возгордился, но оставался все таким же, как и в Старицкой обители, смиренным монахом и пастырем, ставящим превыше всего не собственные славу, власть и почет, но истину Христову и благо Церкви и паствы.
На этом смиренном епископе предстояло в полной мере сбыться евангельским словам Самого Господа: Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк. 18, 11). Святителю Иову предстояло стать не только архиепископом и митрополитом, но и первым в истории Патриархом Всероссийским.
В те годы в политической жизни Руси происходили значительные изменения. Умер Грозный царь Иоанн Васильевич, много лет державший в смертном страхе собственную страну, и престол Русского царства занял его сын, совершенно не похожий на жестокого отца, – благочестивый и милостивый Феодор Иоаннович. Некоторые историки пытались представить Феодора «слабоумным». И действительно, на фоне собственного отца, бояр и вообще большинства государственных деятелей своего времени этот царь выглядел весьма странным человеком, «не от мира сего», ибо не желал интриговать, не вел захватнических войн, не стремился по чужим трупам к безграничному росту собственной власти и не стеснялся открыто советоваться по различным вопросам со своими приближенными и даже с собственной женой Ириной. Но если судить не столько по чужим оценкам, сколько по непосредственным поступкам Феодора Иоанновича, естественнее будет предположить, что в его лице Руси посчастливилось увидеть не так уж часто, увы, встречающийся тип правителя – искреннего христианина на троне. Феодор Иоаннович заботился прежде всего о благоденствии своего отечества и об укреплении Церкви. И потому неудивительно, что именно в его царствование был, наконец, поднят давно назревший вопрос о независимости Русской Церкви от Церкви Константинопольской, которая сама находилась под гнетом турецкого султана.
Как известно, со времени Крещения Руси Русская Православная Церковь не была самостоятельной Поместной Церковью, но входила в Константинопольский Патриархат в качестве митрополии. Это было совершенно естественно и закономерно: ведь именно греческие миссионеры, посланцы Константинопольской Церкви, принесли в славянские земли – в том числе и на Русь – свет веры Христовой; греки же, рукоположенные Константинопольским Патриархом, были первыми священниками и епископами Русской земли. Впоследствии, когда на Руси уже выросли первые поколения христиан и появились собственные, русские по крови и воспитанию клирики всех степеней, верховная юрисдикция Константинопольской Церкви все еще сохранялась над Русской Митрополией, хотя к этому времени она и обрела уже значительную долю самостоятельности: чтобы создать подлинно православную традицию и культуру и дать ей прочно укорениться в народной почве, недостаточно двух-трех веков, тем более если речь идет о стране, не имевшей до прихода христианства даже собственной письменности, не говоря уже о развитой духовной культуре, пусть и языческой (как это было, например, в Греции, Риме и Египте). Руси все еще необходимо было верховное руководство более опытной во всех отношениях Церкви.
Читать дальше