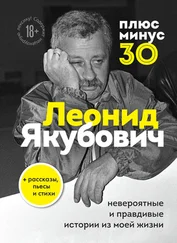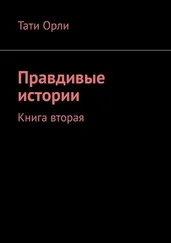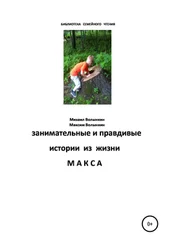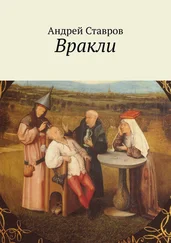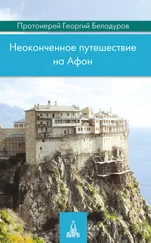– Не Феодохос, а Тheodohos, – сказал он, произнеся первый звук слегка шепеляво, словно по-английски.
Он был серьезен и не очень расположен к близкому общению. Ну и мы не рискнули расспрашивать его: откуда он и как попал на Святую Гору. Все наши монахи, живущие на Святой Горе, считают, что это огромная Божия милость – оказаться на Афоне и остаться тут. Это же ощущалось и в отце Феодохосе, который, как мне показалось, хотел бы поскорее забыть свое русское прошлое и превратиться в настоящего грека. Феодохос провел нас в сравнительно большой храм, вход в который располагался на втором этаже справа от скитских ворот.
Отец Феодохос вывел нас из храма, запер его на ключ и сообщил нам, что вечерня будет в 16:00 по среднеевропейскому времени, после вечерни – трапеза, а затем повечерие и время отдыха. Ночная служба начнется в 1:30. После этого он попрощался и спешно удалился куда-то по своим делам. До вечерни оставалось около двух часов, и мы отправились осматривать скит.
Еще совсем недавно скит тихо умирал. После того как в 1972 году скончался последний русский насельник скита отец Сампсон (мы видели его могилу неподалеку от входа в архондарик), скит стоял пустым. Потом были назначены два монаха присматривать за зданиями. Скит расположен на земле греческого монастыря Ватопед, и ватопедцы, дабы не было разграбления и похищения святынь, вывезли на время большую часть того, что было в скиту ценного. И наконец, в скит пришла греческая община во главе со старцем отцом Ефремом, учеником великого подвижника ХХ века схимонаха Иосифа Исихаста [7] Иосифа Исихаста зовут еще Иосифом Пещерником, или по-гречески Спелиотом.
. Сегодня ученики этого великого старца и молитвенника играют на Афоне большую роль, они управляют многими монастырями, в которых введен особый Устав, характерный для общины Иосифа Исихаста. Среди таких монастырей – Филофей, откуда пришел с братией нынешний дикей [8] Дикей – начальник скита или келлии.
Андреевского скита, и монастырь Ватопед. В здании, примыкающем к скиту, расположена богословская школа для юношей – Афониада. Мы с Олегом еще не знали этого и потому с удивлением смотрели на баскетбольную площадку, рядом с которой росла усыпанная спелыми плодами хурма. Многие здания скита выглядели заброшенными и пустынными, повсюду были видны следы запустения и разрухи, но греки все же понемногу приводили скит-гигант в порядок.
Я позвонил в Москву отцу Паисию, описал ему нашу ситуацию. Он приободрил меня, сказав, что кроме отца Иоанникия у него есть еще один друг-афонит, он созвонится с ним и попытается решить проблему нашей афонской неприкаянности. Побродив по «осенним» – декабрьским окрестностям, мы возвратились в скит.
Наступало время вечерни. Храм был заполнен людьми. Мы отыскали себе свободные стасидии [9] Стасидия – специальное место для сидения с высокой спинкой, изготавливаемое из дерева. Стасидия устроена так, что позволяет молящемуся стоять, или сидеть, или полусидеть, облокотившись на специальные подлокотники. Спасает от тяжелой усталости во время многочасовых ночных служб.
, которые были в разных местах, но не очень далеко друг от друга. Пение чередовалось с чтением, мы постепенно привыкали к необычному византийскому богослужению. Я, конечно, ничего не понимаю по-гречески, кроме самых простых слов – здравствуйте, спасибо, пожалуйста, простите и благословите, – и, наверное, все. Мне помогает знание церковного Устава, хотя в наших храмах служат немного по-другому. И в чине службы кое-что сокращено, и песнопения короче. Меня предупреждали, что праздничное пение стихир [10] Стихиры – песнопения, сопровождающиеся стихами из Псалтири.
на «Господи воззвах» может затянуться на три четверти часа, а у нас в России пятнадцать минут – уже долго! Читают же греки весьма быстро. В итоге вечерня продолжалась около полутора часов. После окончания все дружно, но не спеша пошли в трапезную, которая располагалась в цокольном этаже громадного Андреевского собора. Сегодня, сидя в трапезной, было легко представить, что сто лет назад в ней питались восемьсот монахов из России.
В скиту – панагир, то есть престольный праздник. Из Греции ради этого торжества приехало великое множество паломников, собрались гости и из разных монастырей и келлий Святой Горы. Так уж повелось на Афоне, что панагиры, где бы они не случались, – а в монастырях и больших скитах особенно, – привлекают к себе большое количество богомольцев. Для местных жителей – сиромахов или обитателей бедных уединенных келлий и калив – такие панагиры важное подспорье в их скудной жизни. Многие унесут с собой подарки-«благословения» от святого апостола Андрея и его братии. Кому-то кулек крупы, кому-то баночка рыбных консервов… А те, кто приехал с материка, наоборот, привезли братии скита различные угощения и денежные пожертвования. Для нас, русских паломников из провинциальной Твери, это просто возможность переночевать, приложиться к святыням и восхититься настоящей византийской службой – с раскачивающимися в темноте паникадилом [11] Паникадило – люстра в храме.
и хоросом [12] Хорос ( греч . «круг») – большой круглый светильник, висящий в центре храма. Крепится мощными металлическими цепями за основание барабана, на котором лежит сверху купол. Внутри хороса вешается особая церковная люстра – паникадило. В хоросе и паникадиле наряду с металлическими элементами есть лампады и свечи. В афонских храмах отсутствует электрическое освещение – только свечи и лампады. В определенные моменты богослужения хорос и кадило раскачиваются – их приводит в движение специально приставленный монах.
, с разнообразными распевами заезжих мастеров греческого пения.
Читать дальше
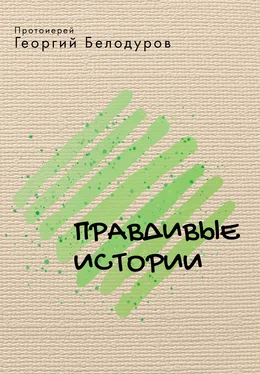

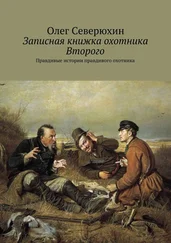
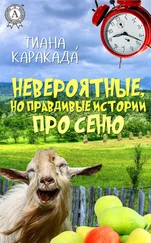
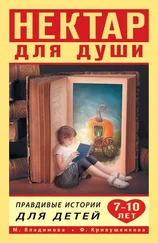
![Георгий Старков - Страшная история [сборник]](/books/404659/georgij-starkov-strashnaya-istoriya-sbornik-thumb.webp)