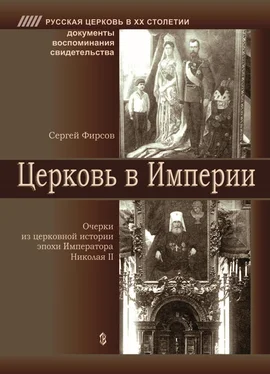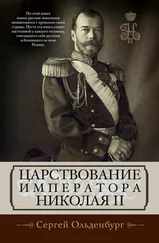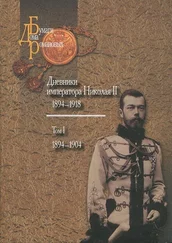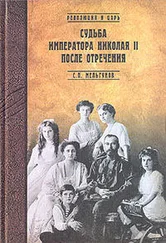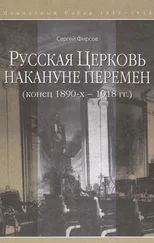В апреле 1903 г. Император в ходе посещения Москвы заехал в Новоиерусалимский монастырь, где был погребен известный церковный реформатор Патриарх Никон. Пресса откликнулась на это посещение, заявив, что могила святителя «теперь настоящий символ примирения царя и патриарха». «Московские ведомости» не забыли указать, что только впоследствии, с появлением в России протестантских влияний, личное столкновение царя Алексея Михайловича и патриарха Никона «раздули для потомства в образчик будто бы принципиального столкновения власти церковной и государственной и сделали из памяти Никона орудие для искажения столь благотворного союза власти верховной и святительской».
Более откровенно высказаться было трудно: газета, опубликовавшая к тому времени уже серию статей Л.А. Тихомирова, однозначно высказывалась в пользу восстановления патриаршества, доказывая государю, что его власть от этого только укрепится. Не случайно Патриарх Никон назывался в заметке «другом царским»; неизвестный автор ставил вопрос, когда же наконец засияет прежней жизнью символическое место «царя мира». У газеты имелись для таких вопросов веские основания: в церковных кругах было известно, что Николай II читал записку Л.А. Тихомирова и соглашался с ней. Более того, по словам генерала А.А. Киреева, «в уме государя в Москве, очевидно, боролись какие-то противоречивые течения. Несомненно, предполагалось что-то серьезное в области Церкви. В типографии чиновники сидели до 9 часов субботы (перед Пасхой), но их распустили». К сожалению, не известно, что планировалось объявить: прямых материалов на этот счет обнаружить не удалось. Но косвенные данные (сообщение Киреева и заметка в «Московских ведомостях») свидетельствуют, что государственных решений о Церкви ждали. К тому же весной 1903 г., очевидно, в Москве у митрополита Антония (Вадковского) состоялся разговор с дядей царя, московским генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем. Разговор касался необходимости изменения строя церковной жизни. Сергей Александрович сочувствовал церковным реформам. А спустя месяц, в мае 1903 г., министр внутренних дел В.К. Плеве рассказал митрополиту Антонию, что у него состоялся разговор с государем и что он, Плеве, хотел бы поговорить с Владыкой о необходимости переустройства церковного управления на основах канонов. Хотя разговор так и не состоялся, у столичного архипастыря сложилось впечатление, что Николай II этим вопросом серьезно занят.
В июле 1903 г. в жизни Православной Российской Церкви произошло одно из наиболее ярких и выдающихся событий начала XX в.: при непосредственном участии Государя в Сарове (что на границе Тамбовской и Нижегородской губерний) были организованы торжества, посвященные прославлению великого русского святого преподобного Серафима. Вместе с Императором и членами Дома Романовых в торжествах приняли участие от 150 до 300 тысяч богомольцев – огромное и по тем временам число. Для Николая II участие в Саровских торжествах стало символом его единения с народом, возможностью преодолеть «средостение» и с Божией помощью решить церковные нестроения.
Эти же церковные нестроения пытались обсудить и, по возможности, разрешить представители русской богословской науки: не случайно в том же 1903 г. в журнале Московской Духовной Академии «Богословский вестник» появилась работа заслуженного ординарного профессора МДА Н.А. Заозерского – крупного специалиста в области церковного права и православного публициста, откликавшегося на злободневные вопросы церковной жизни. Собственно говоря, его работа представляла собой развернутый ответ на статью Л.А. Тихомирова. Уже на первых страницах своего исследования Заозерский специально подчеркнул, что стоит «неуклонно лишь на почве принципов православно-церковного права». С этой точки зрения он подверг критике «формальный подход» Тихомирова к исследованию причин слабости церковного управления.
Профессор считал главной причиной исключительно канцелярский, замкнутый принцип ведения всего церковного управления. «Наша иерархия правит народом православным чрез посредство канцелярий, чрез посредство бумаг, не входя с ним в непосредственное живое соприкосновение: вследствие этого все меры иерархии – законодательные, административные, судебные не имеют в глазах народа не только нравственного авторитета, не действуют на сердце или совесть его, но и не достигают должной общеизвестности, популярности». Он полагал, что сказанное относится как к епархиальному, так и к центральному управлению.
Читать дальше