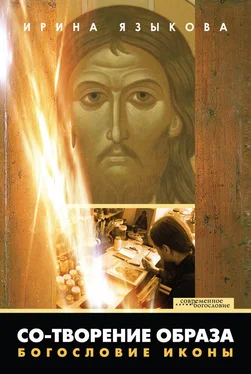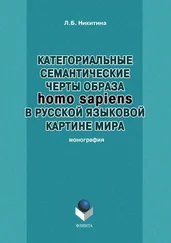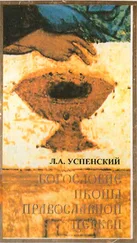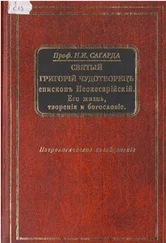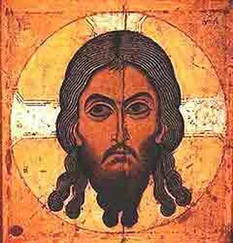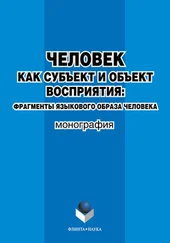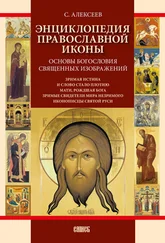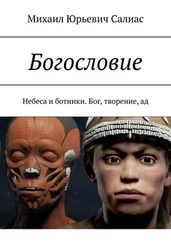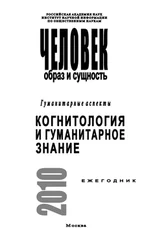Первые христиане не знали икон в нашем понимании этого слова, но развитая образность Ветхого и Нового Заветов уже несла в себе зачатки иконографии. Римские катакомбы сохранили на своих стенах рисунки, свидетельствующие, что библейский символизм находил выражение в живописном и графическом творчестве первых христиан. Рыба, якорь, кораблик, птицы с оливковыми ветвями в клюве, виноградная лоза, монограмма Христа и другие – эти нехитрые знаки указывали на глубинные понятия христианства. Постепенно христианская культура стала осваивать язык античной культуры по мере разложения последней. Уже в катакомбах появляются античные сюжеты, но истолкованные с точки зрения евангельского откровения. Христианские апологеты опасались ассимиляции христианства языческим миром, но на самом деле происходило обратное: христианская культура вбирала в себя античную, придавая ей новый смысл. Язык античной философии был приспособлен св. отцами для изложения догматов христианской веры, его изощренный понятийный аппарат пригодился для богословия. Точно так же язык позднеантичного искусства на первых порах оказался вполне приемлемым для христианского изобразительного искусства. Так, уже в первые века новой эры получает распространение сюжет «Добрый Пастырь», который хорошо известен в греческом искусстве как изображение Гермеса, а для христиан он стал аллегорическим изображением Христа, отсылающим к евангельским словам: «Я есть пастырь добрый» (Ин 10:14). Крылатые Ники со временем превратились в изображения ангелов и т. д. На саркофагах знатных людей появляются очень развитые рельефные изображения ветхозаветных и евангельских сюжетов, притч, аллегорий, выполненные в стиле поздней античности, но эти изображения говорят о принадлежности захороненных здесь людей к христианской общине. Конечно, до иконы было еще далеко. Христианская культура несколько веков искала адекватный способ выражения христианского откровения, но начало этого поиска было положено уже в первые века.
Первые иконы стали появляться только в IV–V вв. В 313 г. император Константин издал Миланский эдикт, даровавший всем религиям свободу исповедания, с этого времени христиане могли свободно совершать богослужения, строить храмы, развивать свою культуру. Первые иконы напоминали позднеримский портрет и написаны в реалистичной (натуралистической) манере: энергично, пастозно, чувственно. Об этом можно судить по иконам из монастыря Св. Екатерины на Синае (датируются VI в.). Как было принято в античности, они исполнены в технике энкаустики (восковой живописи). Стилистически они близки к так называемому фаюмскому погребальному портрету. (Название происходит от египетского оазиса Фаюм, что неподалеку от Каира, где были найдены такие портреты.) Это были небольшие дощечки с написанными на них лицами умерших людей, их клали на саркофаги и мумии при погребении, чтобы живущие сохраняли связь с ушедшими в иной мир.
Фаюмский портрет некоторые исследователи называют даже протоиконой. Действительно, эти изображения обладают удивительной силой – с них смотрят на нас лица с широко открытыми глазами, выразительными до пронзительности. И на первый взгляд их сходство с иконой значительно: фронтальность, нередко золотой фон, преувеличенные глаза и прочее. Но значительно и различие. И оно касается не столько изобразительных средств – они менялись со временем, сколько внутренней сущности образа, его смысла. Погребальный портрет написан, чтобы удержать в памяти живых портретные черты умершего человека. И это всегда напоминание о смерти, ее неумолимой власти над человеком, чему сопротивляется человеческая память, хранящая облик любимого. Фаюмский портрет всегда трагичен. Икона же, напротив, – это свидетельство о жизни, о победе над смертью. Икона – это благая (радостная) весть. Она пишется с точки зрения вечности. Икона может сохранять некоторые портретные характеристики изображенного: возраст, пол, социальное положение и прочее. Но лицо на иконе – это лик, повернутый к Богу, личность, преображенная в свете вечности. Суть иконы в пасхальной радости. Это не расставание, а встреча. И поэтому икона в своем развитии двигалась от портрета – к знаковому образу, от лица – к лику, от реального и временного – к изображению идеального и вечного, от натурализма – к обобщенной, символичной форме.
Самое главное в иконе – лик. В практике иконописания стадии работы так и разделяются на «личное» и «доличное». Сначала пишется «доличное» – фон, пейзаж, архитектура, одежды и прочее. В больших работах эту стадию исполняет мастер второй руки, помощник. Главный мастер, знаменщик (он обычно знаменует, то есть размечает всю композицию), пишет «личное», то есть то, что относится к личности. Соблюдение такого порядка работы важно, потому что икона, как и все мироздание, иерархична. «Доличное» и «личное» – это разные ступени бытия.
Читать дальше