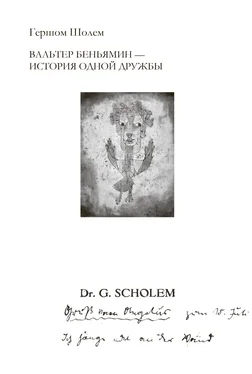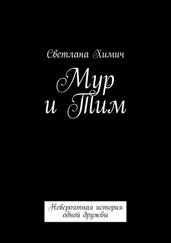Первая черта Беньямина, которая бросилась мне в глаза, оставшаяся характерной для него на протяжении всей жизни, заключалась в том, что во время разговора он не мог усидеть на месте, а тотчас начинал ходить по комнате, формулируя фразы, а затем перед кем-нибудь останавливался и со своеобразной интенсивностью излагал свою позицию или, как бы экспериментируя, формулировал другие возможные позиции. А наедине с собеседником Беньямин любил смотреть ему в глаза. Но когда он, как уже было описано, особенно выступая в широком кругу, устремлял взгляд в самый дальний угол потолка комнаты, это придавало ему прямо-таки магический вид. Эта неподвижность взгляда создавала сильный контраст с его оживлённой жестикуляцией.
О его внешнем виде я уже говорил. Назвать его красивым было нельзя, но он поражал своим высоким чистым лбом, обрамлённым высокой шапкой волнистых, непослушных тёмных волос, которые он сохранил до конца жизни, – со временем поседевших. У него был красивый – мелодичный и проникновенный – голос. Он превосходно читал и производил особенное впечатление при спокойных интонациях. Беньямин был среднего роста, тогда и ещё много лет спустя отличался стройностью, одевался подчёркнуто неброско и держался, слегка наклонившись вперёд. Не помню, чтобы он ходил выпрямившись, с высоко поднятой головой. В его походке чувствовалось что-то характерное, размеренное и ощупывающее – что можно было объяснить его близорукостью. Он не любил ходить быстро, и мне – а я был гораздо выше ростом, длинноногий и делал стремительные большие шаги – было нелегко в наших прогулках приспособиться к его походке. Он часто останавливался, продолжая говорить. Сзади его легко можно было узнать по походке, её своеобразие с годами лишь усилилось. Он носил сильные очки, которые часто снимал в ходе разговора, обезоруживая впечатляющие тёмно-синие глаза. Нос у него был правильный, нижняя часть лица тогда была ещё мягкой, а губы – полными и чувственными. Нижняя половина лица контрастировала своей неполной сформированностью с верхней половиной, сильно и выразительно развитой. Когда он говорил, лицо принимало странно замкнутое, скорее обращённое внутрь выражение. Он всегда носил густые усы, при этом гладко выбривая щёки и подбородок. Кожа его тела отличалась белизной, цвет же лица был слегка красноватым. Кисти рук – красивые, узкие и выразительные. В целом его физиономия носила несомненно еврейские черты, но с каким-то спокойным, умеренным оттенком. Лучшие его фотоснимки были сделаны Жерменой Круль (1926), а снятые лет десять спустя – Жизелью Фройнд 23, обе из Парижа.
Характерная для него форма обхождения отличалась подчёркнутой вежливостью, которая устанавливала естественную дистанцию и, казалось, требовала от партнёра аналогичного поведения. В моём случае это было особенно сложным, так как от природы я не склонен к вежливости – и с самой молодости ходили слухи о моём провокативном поведении. Беньямин, которому претили обычные для Берлина беспардонность и неотёсанность, сполна постигнутые мной в отношениях с друзьями юности, был, пожалуй, единственным человеком, в общении с которым я почти всегда употреблял вежливые формы. Правда, существовал один пункт, где я мог расквитаться с ним. Беньямин выражался изысканно, но не демонстративно, иногда – без особого успеха и, скорее, подражательно – прибегая к берлинскому диалекту, в котором, однако, чувствовал себя не вполне уверенно. Ведь он родился и вырос в старом районе западной части города, где берлинский диалект был уже не тот – тогда как сам я происходил из Альт-Берлина 24, и диалект, как и формы обхождения Фридрихсграхта 25и Меркишен Фиртеля 26, были для меня естественными. Поэтому – если речь шла не о философии и теологии – я охотно переходил на чистый берлинский диалект, в котором превосходил его, и это его поразительно веселило и занимало. Зато я решительно уступал ему в литературном немецком. Его манера выражаться со временем заметно повлияла на меня, я перенял у него немало маньеризмов, как, например, выразительную постановку местоимения «себя» в возвратных глаголах. Словом наивысшего признания у Беньямина было «необыкновенно» – и произносилось оно всегда с особой интонацией. Из критических терминов высоко котировалась «объективная лживость». Еврейские обороты речи он тогда совсем не использовал и начал их применять лишь впоследствии, под влиянием Доры и моим. Я должен признаться, к своему стыду, что позволил себе в одном месте его письма [B. I. S. 381] 27выбросить такой оборот речи и заменить его точками.
Читать дальше