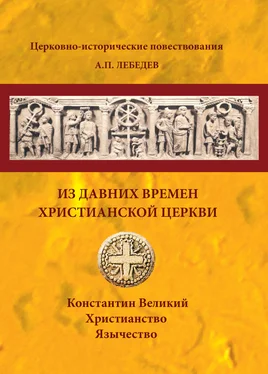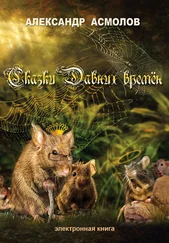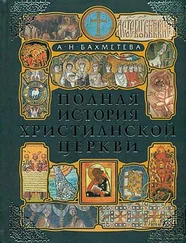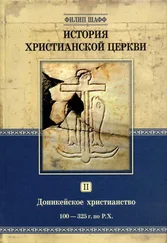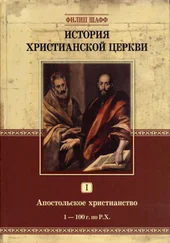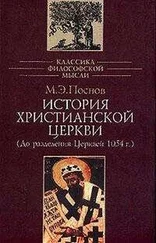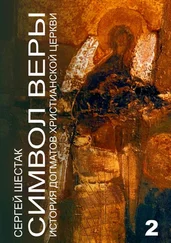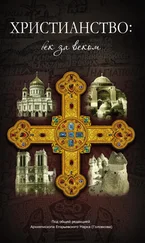К замечательнейшим и интереснейшим обнаружениям духа христианского в домашней жизни первенствующих христиан принадлежит влияние его на девственное и брачное состояния.
С полным правом говорит Иоанн Златоуст, что девство только в христианстве достойно оценено, и с таким же правом он восклицает: «Прежде чем явилось христианство, где тогда было девство?» Евангельскому совету о девстве (Мф. 19, 12) следовали многие из первых верующих. Иустин (около 138 г.) пишет: «Между христианами есть много мужчин и женщин из всех сословий, которые с детства пребывали в девстве и достигли уже 60 или 70 лет». Немного позднее апологет Афинагор говорит: «У нас можно найти многих как мужчин, так и женщин, которые остаются в безбрачии, в надежде таким образом теснее соединиться с Богом». И Минуций Феликс утверждает: «Мы целомудренны в наших речах, непорочны в нашем теле. Очень многие между нами постоянно девствуют, имея целомудренное тело, хотя они и не хвалятся этим». Все последующие отцы церкви настаивают на мысли о предпочтении девства перед супружеством. Когда на Западе Иовиниан, Гельвидий и Вигилянций стали распространять противоположный взгляд, то бл. Августин и бл. Иероним провозгласили это последнее учение ересью и сильно боролись против него. При этом никогда не надобно забывать, что понятие о девстве не ограничивалось представлением только о телесной непорочности. Истинным девственником считался тот, кто при непорочности телесной отличался смирением и внутренней чистотой. Так учили мужи апостольские: Климент римский и Игнатий Богоносец. Собор Гангрский около середины IV века говорит: «Если кто из тех, кто ради Господа остается безбрачным, осмеливается гордиться над женатыми – анафема». Подобным образом писал и Кирилл Иерусалимский. Как сильно церковь настаивала на внутренней чистоте, понимая под ней отрешение от нечистых желаний, взглядов, слов и пр., это можно видеть из слов Афинагора: девство ведет к Богу, а нечистые помыслы и похоти снова удаляют от Бога». Пополняя ту же мысль, Минуций Феликс говорит: «Мы целомудренны не только во взоре, но и в сердце». Относительно этой внутренней чистоты верующие были убеждены, что она не может быть потеряна даже в том случае, если грубое насилие осквернит чистоту телесную, как это случалось с христианками во время гонений. Проспер Аквитанский (V в.) так рассуждает об этом: «Если сохраняется святость души, то святость тела остается нерастленной, хотя бы тело и потерпело растление; напротив, как скоро не соблюдена чистота души, исчезает и святость тела, хоты бы тело и не было осквернено». В мученических Актах рассказывается, что когда консул Пасхазий в царствование Диоклетиана святую деву Лукию из Сиракуз в Сицилии приказал отдать в публичный дом, она отвечала: «Тело никогда не может вступить в преступную связь, когда нет на то согласия души. Если совершать со мной насилие, непорочность моя удвоится и я получу венец». Впрочем, если приходилось выбирать что-либо одно из двух: смерть или бесчестие, христианские девы и жены с радостью и решительностью выбирали смерть. Они скорее соглашались потерять жизнь, чем лишиться девства, охотнее шли ко львам, чем к содержателям публичных домов (ad leonem, quam ad lenones). Об этом свидетельствует христианский поэт Пруденций Климент (IV в.). В особенности часто случалось в царствование Максимина, преемника Диоклетианова, что христианские жены и девы подвергались казни или пыткам за то, что они не хотели служить гнусным страстям этого императора, его министров и генералов. Евсевий насчитывает не менее 600 христианок, которые приобрели за свое мужество в этом случае великую славу. Во главе этих героинь он ставит знаменитую и высокообразованную александриянку, которая многократно отвергала неистовые искательства языческого императора Максенция и за это наконец лишена была своего богатого имущества. Христианки в период гонений решались даже на самоубийство, лишь бы не потерять свою честь. Позднейшие отцы церкви не одобряли подобные поступки, но в более древнее время многие считали самоубийство, совершенное при таких тесных обстоятельствах, не только позволительным, но и считали его подвигом, заслуживающим всяких похвал. У Евсевия встречаем такой рассказ: достойна удивления одна женщина-христианка в Риме, благороднейшая и скромнейшая из всех, которым пытался нанести бесчестие Максенций. Едва только узнала она, что люди, в таких делах прислуживающие извергу, окружили дом ее, и что ее муж, бывший римским префектом, из страха содействует ее похищению, тотчас, выпросив себе минуту времени, будто для того, чтобы прилично одеться, входит во внутреннюю свою комнату и оставшись одна, пронзает себя мечом и немедленно умирает.
Читать дальше