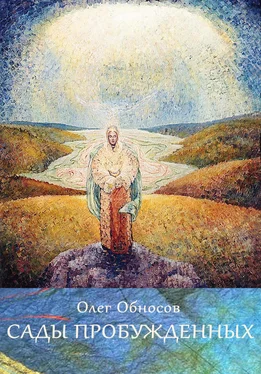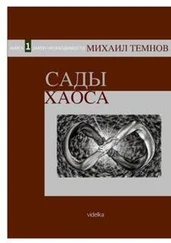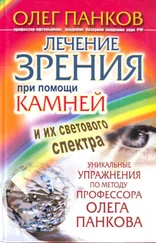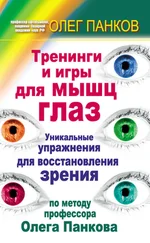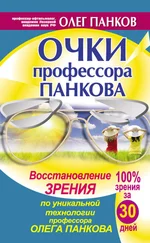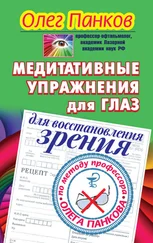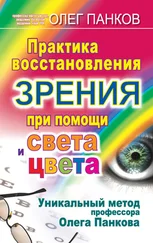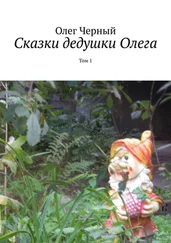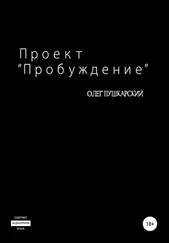Таков был диавол. В Библии о нем упоминается как об ужасном существе. Он, будучи одним из херувимов, мог занять высокое положение, встать над всем творением на первоначальной стадии его миросовершения, но в гордыне своей противопоставил себя Богу. Так во вселенную вошел грех. И хотя сатана и был низвергнут с неба, на земле он свою деятельность на прекратил. Он стал князем нашей мировой системы (Иоан. 14. 30). И оттого все исполняется «по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе» (Еф. 2. 2). То есть в мире второго неба, связанного с нашим миром, первым небом. Для верующего же христианина сатана – это прежде всего искушение. И хотя его сила ограничена, но раз ему дана «держава смерти», то дана и власть испытывать всех верующих, кто чрезмерно привязан к миру сему. Он там, где гордыня одолевает человека.
Таким образом, грех в нашем мире имеет универсальный характер. Никто не избавлен от греха, «все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3. 23). Тем самым избавление могло прийти только с праведностью. И только Христос в этом мире был праведен, и только Его жертвой был очищен мир от греха, благодаря Ему прощение грехов стало доступно по вере грешника.
Если же говорить о ветхозаветной жертве, то она скорее покрывала грехи Израиля, чем реально освобождала от них. В ветхозаветном значении жертва (умилостивление) раскрывалось в двух понятиях: как «то, что умилостивляет», сама «жертва умилостивления»; и как «место умилостивления», «очистилище». Здесь речь идет о крышке ковчега (престола милости), которую кропили кровью жертвы (принося козлов и тельцов) в день очищения (Лев. 16. 14), в знак того, что справедливый приговор (в данном случае символически) приведен в исполнение, и место осуждения сделалось местом умилостивления. Так через кровь тельцов, через окропление этой кровью жертвенника освящалось оскверненное, и место жертвы становилось местом общения с Богом (Исх. 25. 21-22).
Осуществляя этот древний символ, Христос объединил Собою эти два понятия. Престол милости был окроплен Его собственной кровью, и тем самым Он удовлетворил (вместо нас) требование Закона, приняв на Себя справедливое наказание человечества.
Таким образом, лишь правдой Божией освящается и оправдывается человек. Он по вере своей получает это оправдание даром, по благодати, и, обретая свободу, может теперь находиться под покровом полной и блаженной праведности. И все это стало возможным благодаря искуплению и умилостивлению, через жертву, совершенную Христом.
Надо также отметить, что праведность символизирует одежду в Св. Писании. Сама праведность святых как бы раскрывается в их одежде – чистой и светлой (Отк. 19. 8), что являет образ Христа. Вот отчего даже после своего грехопадения не был забыт человек, поскольку «сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные» (Быт. 3. 21), пусть неправедные, но все же достойные того, чтобы первые грешники могли устоять в присутствии Божием. И в этом, пока еще не совершенном образе Христовом, природа человеческая стала трехсоставной, разделенной на «дух, душу и тело».
Тело, в библейском понимании, есть место пребывания чувств, благодаря которым дух и душа познают окружающий мир, приходят к миропониманию. То есть дух в этом случае необходимо рассматривать как ум, а душу как вместилище сердечных привязанностей и желаний, всего того внутреннего опыта, что создает неповторимую индивидуальность человека.
Но тело в то же время становится местом пребывания греховной природы Адама, а именно Адама падшего. Вот почему ап. Павел говорил, что если внутренний человек и находит удовольствие в законе Божием, то плоть его противоборствует этому, как попавшая под закон греховный (Рим. 7. 25). Тем самым тело в большей степени подвержено праху и тлену и отделимо от души и духа. Но тем не менее оно остается неотъемлемой частью человека в день его воскресения, поскольку выйдут из гробов «творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Иоан. 5. 28-29). И получается, что тело как Божий дар не истлевает, истлевает плоть во грехе.
Если же говорить о душе, то она также скорбит и страдает. Она испытывает, много горя от проистекающей жизни, да и после наступления физической смерти проходит свой круг мытарств. И происходит это потому, что душа, как основание для человеческих чувств, не может не скорбеть в своих желаниях и страстях, тем более в этом несовершенном мире проистекающих потерь. И плохо человеку, когда «плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает» (Иов. 14. 22).
Читать дальше