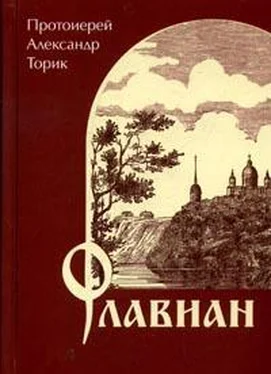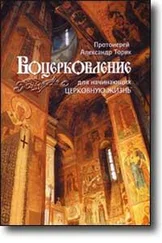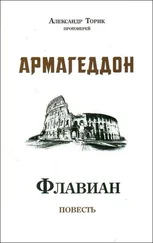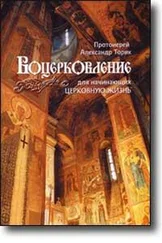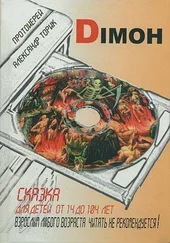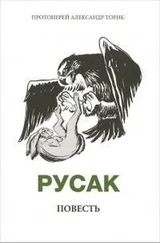Флавиан раскрыл свою книжку, вздохнул, перекрестился широким размашистым крестом и произнёс — «Благословен Бог наш, всегда — ныне и присно и вовеки веков!»
Пока он читал какие-то — то длинные, то короткие молитвы, я немного «отплыл» мыслями куда то в сторону. Вновь, как ночью, передо мной встало несчастное заплаканное лицо Ирки, и сердце сжалось от внезапно нахлынувшей жалости. Ирка, Ирка! А, ведь как я тебя называл когда-то — Иринушка, Иронька, Ирочек… Скотина я, сколько я тебя обижал… Прости меня, что-ли…
— «Се чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое — звонко врезался в мои размышления торжественный голос Флавиана — не усрамися, ниже убойся, и да не скрыеши что от мене: но не обинуяся рцы вся, елика соделал еси, да приимеши оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Се и икона Его пред нами: аз же, точию свидетель есмь, да свидетельствую пред Ним вся, елика речеши мне: аще ли что скрыеши от мене, сугуб грех имаши. Внемли убо: понеже бо пришел еси во врачебницу, да не неисцелен отидеши».
— Странно! — подумал я — молитва на церковнославянском, а я всё понимаю! Кроме «убо» — это слово надо будет не забыть спросить.
— А теперь, брат Алексий, становись на коленочки, вот сюда — на коврик перед аналоем с Евангелием, и вспоминай от детства всё, в чём тебя совесть упрекнёт.
Я опустился на колени. Перед моими глазами тусклым старинным золотом поблескивал вышитый на бархатном аналойном покрывале крупный крест с какими-то копьями по бокам, окружённый со всех сторон вышитыми же буквами. Флавиан сидел слева от меня, на стареньком, поскрипывающем под его тяжестью «венском» стуле, с равномерными промежутками времени перехватывая большим и указательным пальцами левой руки узелки затёртых верёвочных чёток. Слегка повернувшись ко мне в наклоне кудлатой головы, он приготовился слушать.
— Батюшка! Отец Флавиан! Я понимаю, что я грешен, чувствую это, только не знаю как это сказать, какими словами называются мои грехи. Ты мне помоги пожалуйста! Я вот только одно точно понимаю, что я перед Ириной своей во многом виноват, хотя, вот опять же, не могу это сформулировать… Помоги мне!
— Хорошо, Алёша! К вашим отношениям с Ириной мы ещё вернёмся. Давай вот с чего начнём. Ты знаешь, что когда-нибудь умрёшь. Представь себе, что это произошло с тобой сейчас. Вот, ты только что вышел из тела, сбросив его как старую одежду, и твою душу повели на мытарства.
— Сразу на мытарства? Мытарства — это такие мучения?
— Нет. Мытарства это, буквально — таможни, при прохождении которых ты должен уплатить пошлины за несомый тобою багаж. А, багаж твой — грехи, что ты собирал всю жизнь. Представляешь?
— Представляю. Четыре года «растаможкой» на фирме занимался. Тоже нагрешил, наверное кучу.
— Быть может. Так вот, предстоит тебе пройти двадцать таможен, на каждой из которых испытываются свои, определённые виды грехов. Откупиться можно только противоположными этим грехам добрыми делами, подвигами духовными и молитвами — своими и других людей за тебя. Много людей за тебя молится-то?
— Не знаю. Наверное, никто. Бабушка верующая была, она-то должно быть, молилась… А, больше — не знаю.
— Видишь, Алексей, как страшно, когда за тебя молитвенников нет, ведь скольких людей чужая молитва в последний миг спасала! Впрочем, и за тебя молятся — Женя с Ириной, Клавдия, которую ты с Катей подвёз, Катя та же, Семён с Ниной, мать Серафима, ну и я, грешник, тоже.
— Почему? Что я им, чтобы за меня молиться?
— Не что, а кто — брат во Христе Господе! Да ещё — страждущий, нуждающийся в сугубой помощи и поддержке. Любовь Христова заставляет их за тебя молиться. И ты за них молись.
— Буду обязательно! Господи! Надо же, и ко мне кто-то с любовью! Спасибо тебе, Господи, благодарю Тебя!
— Так, вот, Алексей, приведут тебя на первое мытарство, а это — мытарство празднословия и сквернословия, много тебе предъявить смогут?
— Много. Знаешь, я с детства — трепач. Любил «общаться», то есть — трёп. И в школе на уроках, даже выгоняли меня за это из класса частенько. Не язык — помело поганое. Сколько наболтал за всю жизнь — представить страшно! Любил и перед ребятами и перед девчонками красным словцом пощеголять, и в институте потом, да ты сам, наверное помнишь, меня ведь «мешок с анекдотами» звали. Шутки пустые, похабные, язвительные — всё было, и не перечесть. Прости меня, Господи!
— Скверным словом много согрешал?
— Скверным словом? Матом, что ли? Да с третьего класса, с пионерлагеря! Мальчишки у нас там все матерились, ну и я начал. Сперва как-то стыдно было, даже краснел поначалу, потом привыклось, и к концу заезда выдавал — будь здоров! Думал ведь, дурачок, что я от этого повзрослел! Господи! Прости за дурость! А, уж потом, матерился почти не задумываясь, даже художественно, с «наворотами», на публику. Да и, в последнее время, если ты матом да по блатному, да с наркоманским слэнгом не говоришь, так — вроде ты и не полноценный какой-то. Сейчас и ведущие по телевизору такое отпускают! Матершина сейчас это — норма речи! Не раз слышал, как родители с детьми, беззлобно так, матерком переговариваются…
Читать дальше