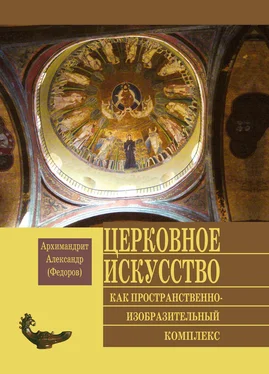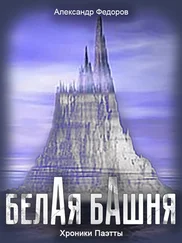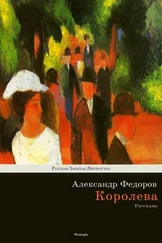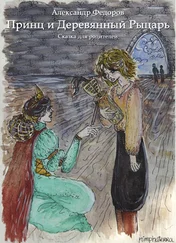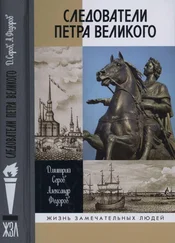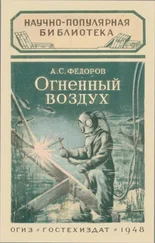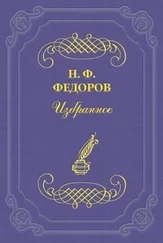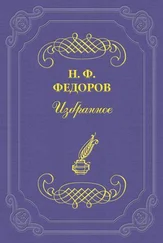Интересно, как подчиняются интерьеру – литургическому пространству – его элементы. Так особо заметно изменение форм капителей колонн, которые вместо сочных листьев коринфского ордера обретают суховатые орнаментальные поверхности, как бы не желающие спорить с пространством храма. Под пятами арок, поднимающимися над колоннами, часто имеются импосты как фрагменты упрощенного антаблемента, похожие на вторую капитель над капителью.
Монументальная живопись данного периода лучше всего представлена равеннскими мозаиками (например, на южной и северной стенах центрального нефа базилики «Sant Apollinare Nuovo» – шествующие к трону Спасителя и трону Божией Матери соответственно мученики и мученицы, повторяющие направленный к алтарю архитектурный ритм колонн; «Гостеприимство Авраама», представляющее начальный этап развития троичной иконографии – у престола храма св. Виталия, там же композиции по сторонам горнего места: Юстиниан с приближенными и напротив, аналогично, императрица Феодора). В этой связанной с интерьером храма живописи отчетливо видны приемы обратной перспективы, некоторой сознательной плоскостности и аскетичности образов, то есть все то, что постепенно становится неотъемлемой составляющей изобразительного искусства Церкви.
Ранневизантийские энкаустические моленные иконы замечательно сохранились на Синае и были обнаружены в XIX веке епископом Порфирием Успенским. Среди них – образ Спасителя, ап. Петра и другие (остающиеся в синайском собрании), а также привезенные в Россию и хранившиеся в Киеве – Богородица с Богомладенцем, св. Иоанн Предтеча, свв. Сергий и Вакх (Музей западного и восточного искусства, Киев). Стилистически они больше, чем мозаики, сохраняют пока связь с античным искусством, но иконографически – вполне узнаваемы и сегодня как передающие нам иконописное предание Древней Церкви.
Представляют исключительный интерес миниатюры двух кодексов – Евангелия Равулы (по имени переписчика), хранящегося в библиотеке Лауренциана во Флоренции, и Россанского Евангелия, находящегося в музее Sacra Arta в Россано (юг Италии). В малом масштабе видятся приемы, свойственные уже монументальной живописи: одна включена в целостность литургического пространства храма, а другая есть органичная часть книги. Венский «Генезис» (Национальная библиотека, Вена) и Синопское Евангелие (Национальная библиотека, Париж) относятся так же, как и названные выше, к VI столетию. Более ранним по времени можно считать лишь Коттонову Библию, происходящую из Александрии (Британский музей, Лондон) и относимую исследователями к концу V века [43: с. 223–230].
Ранневизантийское время представлено также скульптурными рельефами, связанными с малыми формами изобразительного искусства (трон архиепископа Максимиана середины VI в. – в Архиепископском музее в Равенне).
Пополняется и собрание римских мозаик, но их мы позднее рассмотрим как начальную часть западноевропейской живописи.
Эпоха иконоборчества в двух своих этапах (до и после VII Вселенского Собора) оставила печальный след в искусстве не только разрушением священных образов предыдущих столетий, но и весьма своеобразными решениями оформления церковных интерьеров: это были сцены охоты или иные светские развлечения, орнаменты и всяческая растительность, уподобляющая храм оранжерее. Таких образцов сохранилось мало, например, на Кипре кое-где уцелела подобная живопись.
Средневизантийский периодначинается с преодоления иконоборческого кризиса в сороковые годы IX столетия. Уже в эпоху иконоборчества начинает доминировать крестово-купольный тип храма в его ранней разновидности – так называемые центрально-купольные церкви (храмы VII–VIII вв. – Успения в Никее, святителя Николая в Мирах Ликийских, св. Софии в Фессалониках, св. Климента в Анкире). В послеиконоборческое время новый ведущий тип храма получает развитие в нескольких своих вариантах. Формируются принципы иконографических программ размещения монументальной живописи в интерьере церквей, при этом мастера достигают высоких результатов в сложнейших перспективных построениях. Нормативным для иконописи становится использование темперной живописи. Здесь окончательно складываются принципы композиционных и технических приемов византийской моленной иконы. Все виды искусства, в том числе и малые его формы, собираются в единый мир «всех и всяческих икон». Этот период важен тем, что наконец находятся те оптимальные решения в храмовом зодчестве и живописи, которые, не претендуя на исключительность, все-таки станут доминирующими на все последующие времена церковного искусства как формы, имеющие канонический авторитет.
Читать дальше