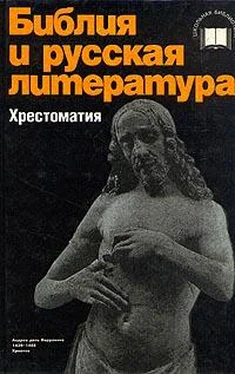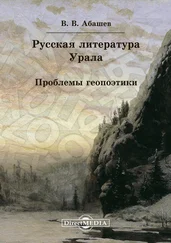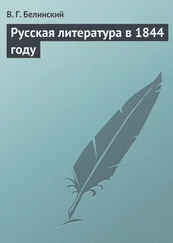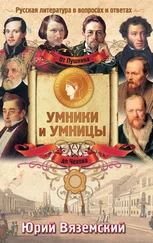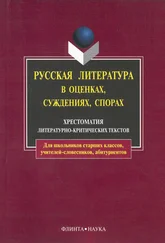Но Анджело, суровый законник, «За нравы строгие прославленный везде», не выдерживает испытания вожделением. Он готов проявить милосердие, только бесовское, как говорит Изабелла: взять выкупом за жизнь брата бесчестие сестры. Пушкин изображает духовный крах Анджело великолепной деталью: «Устами праздными жевал он имя Бога, А в сердце грех кипел.»
Такого рода наблюдения можно вести долго, отыскивая все новые и новые детали в «Евгении Онегине», в лирике, в прозаических произведениях, в сказках... Однако, дело не в умножении примеров, а в постижении закономерности: Библия постоянно присутствует в творческом мышлении поэта, с нею соотнесены его художественные искания, его нравственные представления. Это не обязательно находит прямое выражение в тексте, иной раз сигналом для читателя служит всего одно слово и даже только одно из его значений в контексте. Скажем, в «Медном всаднике» нарисован город наутро после наводнения:
Утра луч Из-за усталых, бледных туч Блеснул над тихою столицей И не нашел уже следов Беды вчерашней; багряницей Уже прикрыто было зло.
Багряница здесь может означать зарю, окрасившую улицы и дома. Но это слово в Библии имеет особые смыслы: так называли пурпурную одежду царей, жрецов высшего ранга. Когда Иисус был приговорен к распятию, Пилат отдал его в руки римских солдат.
«И, раздевши Его, надели на Него багряницу;
И, сплетши венец, из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!
И плевали на Него и, взявши трость, били Его по голове.» (Евангелие от Матфея, XXVII, 28 — 30).
Здесь нет прямого уподобления страданий Петербурга страданиям Иисуса. Но есть неожиданный взгляд на город, вся история которого столь же прекрасна, сколь и мучительна. И все события поэмы словно бы вливаются в русло мировой истории, и русская столица кажется одним из библейских городов.
5. «И свет во тьме светит...»
Воздействие пушкинской поэзии на читателя, среди многих причин, определяется, как давно замечено, чудесной гармоничностью его произведений, соразмерностью и созвучностью их частей. Пристальный взгляд и чуткое ухо уловят в единстве величайшее разнообразие. Откроем, например, страницы пушкинского романа в стихах, еще раз насладимся его драматическим, и светлым финалом, который примиряет с неизбежным и оставляет в душе тревогу, открывает просторы непредсказуемого и побуждает угадывать судьбы героев... Перелистывая восьмую главу, мы без особых аналитических усилий, но с улыбкой удовольствия заметим античную образность, так естественно перенесенную в обстановку лицейской юности, Музу-вакханочку, которая, как в русской волшебной сказке, принимает разные обличья: она и ветреная подруга поэта, и заботливая спутница его в далеких скитаниях, и героиня немецкой баллады, переложенной Жуковским на русский лад, и смиренная странница, одичавшая среди «племен бродящих», и уездная барышня, в которой мы узнаем вдруг героиню романа. Мы удивляемся, обнаружив, что автор устроил на «светском рауте» встречу «двух Татьян»: Татьяны-Музы с Татьяной-княгиней, с «неприступною богиней Роскошной, царственной Невы».
В- непринужденной беседе с читателем автор упоминает мимолетно библейскую легенду о первородном грехе («О люди! все похожи вы На прародительницу Эву...») и античного бога сновидений Морфея, называет имена римских, русских, европейских писателей; автор открывает читателю душевную жизнь героя — его внезапную любовь, безрадостную, как «бури осени холодной», мучения его совести, покаяние, суетные самооправдания и подлинные страдания... Все это слилось в повествовании, которое кажется нам абсолютно свободным, хоть мы и понимаем закованность его в. кристальные строфы, подчиненность строгому ритму.
В целостности пушкинского стиля разные традиции не спорят, но содружествуют, открывая читательскому воображению бескрайние просторы. Так в первой же строфе оды Горация, переложенной Пушкиным вослед за Ломоносовым и Державиным — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»* (1836) — мы воспринимаем как естественное, единственно возможное сочетание евангельского представления о храме нерукотворном с мотивом народной тропы, идущим из русского фольклора (в былинах привычен образ тропы, которая «заколодела, замуравела» — и только богатырь способен сделать ее снова торной).
В пушкинской трактовке «Памятника» вообще много неожиданного с точки зрения диалога «культур». В той же первой строфе Александрийский столп пробуждает одновременно две ассоциации: воспоминание о знаменитом маяке высотою 110 метров в Александрии Египетской (IV — III вв. до н. э.) и о колонне на Дворцовой площади в Петербурге, увенчанной фигурой ангела с лицом Александра I (1834 г.). И далее в тексте стихотворения читателя нимало не удивляет, что бессмертие поэта трактуется в соответствии с представлениями античной культуры как жизнь его души в созданных им творениях, но, обращаясь к Музе, автор призывает ее быть послушной велению евангельского Бога, который заповедовал смирение и незлобивость...
Читать дальше