Что же сказать о необъятных российских просторах, насквозь продуваемых северными ветрами; здесь само сохранение жизни требует огромных затрат, прежде всего из-за стоимости энергоносителей [110]. Египетские пустынники нуждались в огне только чтобы сварить пищу, нам минимум восемь месяцев в году нужно топить [111], хорошо если газом, а то соляркой (дорого), электричеством (невозможно дорого); уголь или дрова дешевле, но к ценам по заготовке придется приплюсовать существенные трудовые издержки: за котлами или печами необходим круглосуточный присмотр.
Сколоченная из досок хижина по примеру Палестины или даже Калифорнии нам не подходит; нужен глубокий фундамент, серьезные стройматериалы, дерево или кирпич, солидные утеплители: поэтому любое строительство и производство у нас на вес золота; не случайно монастырские хроники в заслуги настоятеля прежде всего записывают постройку теплого храма или братского жилого корпуса.
Русские монастыри всегда испытывали тяжесть долгой зимы и недостаток продовольствия из-за короткого и не жаркого лета. Историки считают основой древнего монастырского хозяйства не денежные пожертвования (вклады), а земельные владения, и тут же упоминают частые неурожайные годы. Для поддержания жизни возделывали, кроме пашни, обширные огороды, держали скот и следовательно сенокосы, выращивали лекарственные травы, разводили пчел, ловили рыбу, на севере добывали на продажу черную лисицу, песца, белого медведя, топили тюлений жир, варили соль; не торговали только хлебом, который слишком дорого доставался и даже при избытке сохранялся на будущий, возможно голодный год [112].
Известны описания несметных богатств некоторых монастырей в XIX веке: Соловки имели кожевенное производство, сапожную мастерскую, рыболовный флот с собственной верфью; на Новом Афоне в короткое время обзавелись каменоломней, узкоколейкой, кирпичным заводом; разводили рыбу, посадили оливковые плантации, виноградники и прежде неведомые на Кавказе цитрусы.
На Валааме кроме знаменитых садов показывали смолокурню, известковый завод, громадные амбары, коровники, конюшни, разные мастерские; на острове проложили хорошие дороги; эксплоатировалось пароходство. В Дивееве функционировали мельница, фабрика тканей, мастерские иконная, киотная, чеканная, столярная, вязальная; плели кружева, вышивали по бархату; в Шамордине сестры сами шили обувь, держали типографию, мельницу, водокачку; первыми завели свою фотомастерскую [113].
Киево-Печерская Лавра в начале ХХ века имела хозяйство, которым мог бы похвалиться целый город: хлебозавод, винное, медоварное и пивное производство, макаронную фабрику, типографию, живописную, сапожную, портняжную, слесарную, кузнечную мастерские, свечной завод, электростанцию и АТС. Огромные площади занимали заливные луга под сенокос, огороды, плодовые сады и виноградники; Голосеевский и Китаевский хутора поставляли овощи, молоко, фрукты, пасека в Самбурках – мед и воск, в прудах разводили рыбу, в оранжереях выращивали лимоны с апельсинами, погреб для хранения припасов и солений занимал пять этажей!
Однако и кормить приходилось, считая все скиты и подворья, более трех с половиной тысяч братий да еще невесть сколько неотвратимых послушниц, которые вместе с штрафниками из монахов чистили картошку, а также готовили еду, стирали бельё и пололи грядки. Лавру посещали десятки тысяч богомольцев, которых размещали в гостинице из 14 корпусов; в нескольких лавках на территории монастыря каждый из них покупал что-нибудь на память: торговали лаврским необыкновенным хлебом, ладанками, ювелирными изделиями, книгами, иконами, картинами [114].
Но всё это имели и умножали несколько крупных, всенародно посещаемых многонаселенных обителей. Большинству же других, небольших по численности, не владевших, по-видимому, начальным капиталом, чтобы развернуться, приходилось довольствоваться скромным существованием. Средства добывали в основном тем, что ходили по сбору ; способ этот всегда осуждался как попрошайничество и цыганство, и в 1910 году Синод даже запретил выдавать сборные книжки , но из-за нужды никогда не прекращался и вместе с монастырями возродился в наши дни.
Монастыри, кроме заштатных [115], получали стабильные, хотя и небольшие субсидии от государства. К примеру, Донскому монастырю, в котором на 1910 год числилось 37 монахов и 11 послушников, выделяли 2212 рублей, т.е. около 50 рублей в год на брата; Данилову даже меньше: при списочном составе 22 человека – 711 рублей, т.е. около 32 на брата [116]. Для сравнения: заработная плата рабочего в те же годы составляла, в зависимости от производства, от 200 до 400 рублей в год, а цены на основные продукты питания: хлеб ржаной – 7 копеек за килограмм, пшеничный – 17 копеек; сахар – 34 копейки, сливочное масло – 52 копейки, растительное – 5 копеек, 1 литр молока – 10 копеек, десяток яиц – 30 копеек [117].
Читать дальше
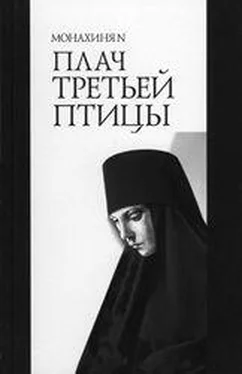


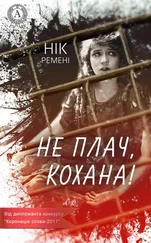
![Кира Измайлова - Тайна третьей невесты [litres]](/books/422250/kira-izmajlova-tajna-tretej-nevesty-litres-thumb.webp)



