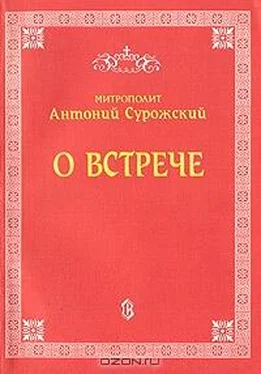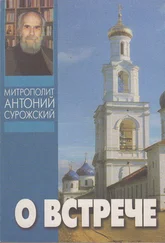Были вещи, которых вы боялись, — темной комнаты, диких зверей?
Нет, диких зверей я не специально боялся, просто не было случая особенно бояться. Ну, бывали кабаны у нас в Персии, они были в степи, заходили в сад; бывали другие дикие звери, но они по ночам рыскали, а меня всё равно ночью из дома не пускали, поэтому ничего особенно страшного не было. А темной комнаты я боялся, но я не скрывал таких вещей. С одной стороны, надо мной никогда не смеялись ни за какие страхи, ни за какие предрассудки, детские свойства; а отец в те периоды, когда мы были вместе, во мне развивал мужественные свойства просто рассказами о мужественных поступках, о том, какие были люди, и поэтому я сам тянулся к этому. Не к какому-то особенному героизму, а к тому, что есть такое понятие — мужество, которое очень высоко и прекрасно; поэтому мальчиком я себя воспитывал очень много в дисциплине. Когда я начал уже больше сознавать, когда мне было лет одиннадцать-двенадцать, я в себе воспитывал физическую выдержку. Отец, например, считал, позором, если ты возьмешь горячую кастрюлю и ее выпустишь из рук: держи! А если обожжешь пальцы — потом посмотрим. Это также относилось к утомлению, к боли, к холоду и так далее. Я себя очень воспитывал в этом отношении, потому что мне казалось, что это — да! Это мужественное свойство. Когда мне было лет пятнадцать-шестнадцать, я годами спал при открытом окне без одеяла, и когда было холодно, я вставал, делал гимнастику, ложился обратно — ну, всё это впрок, как будто, пошло.
Затем школьные годы пошли дальше, три года в той же школе. Почему? Она была самая дешевая, во-первых, затем, единственная по тому времени вокруг Парижа и в самом Париже, где мне можно было быть живущим. Потом меня перевели в другую — там был просто рай земной, божьи коровки, после того, что я видел в первой школе; самые ярые были просто, как картинки.
Школьную дисциплину вы принимали?
Я был слишком ленив для того, чтобы быть шаловливым мальчиком; у меня было чувство, что шалости просто того не стоят. Меня школа не интересовала, меня интересовали только русские организации; и кроме того, я обнаружил очень важную вещь: если ты учишься плохо, ты два года сидишь в одном классе, и так как я хотел избавиться от школы поскорее, то я всегда учился так, чтобы не засидеться; это было моим основным двигателем. А некоторые предметы я любил и ими занимался; то есть “некоторые”, множественное число — почти преувеличение, потому что я увлекался латынью. Меня всегда интересовали и увлекали языки, латынь мне страшно нравилась, потому что одновременно с латынью я увлекся архитектурой, а латынь и архитектура одного свойства: это язык, который весь строится по определенным правилам, именно как строишь здание — и грамматика, и синтаксис, и положение слов, и соотношение слов, — и этим меня латынь пленила. Немецкий я любил, немецкую поэзию, которую я и до сих пор люблю. Про архитектуру, когда мне было лет десять, я очень много читал, а потом успокоился, увлекся другим — воинским строем, тем, что называлось родиноведение, то есть всем, что относилось к России, — историей, географией, языком опять-таки; и жизнью ради нее. Я учился во французской школе, и там идеологической подкладки никакой не было: просто приходили, учились и уходили, или жили в интернате, но всё равно ничего не было за этим.
Товарищи были по школе или по организации?
Нет. Были товарищи в организации, то есть люди, мальчики, которых я любил больше или меньше, но я никогда ни к кому не ходил и никогда никого не приглашал.
Принцип?
Просто желания не было; я любил сидеть дома у себя в комнате один. Я повесил у себя на стене цитату из Вовенарга [4] Французский моралист XVIII века.
: “Тот, кто ко мне придет, окажет мне честь; кто не придет, доставит мне удовольствие”; и единственный раз, когда я пригласил мальчика в гости, он посмотрел на цитату и ушел. Общительным я никогда не был; я любил читать, любил жить со своими мыслями и любил русские организации. Я их рассматривал как место, где из нас куют что-то, и мне было всё равно, кто со мной, если он разделяет эти мысли; нравится он мне или не нравится — мне было совершенно всё равно, лишь бы он был готов головой стоять за эти вещи.
Я уже не был живущим в школе, у меня было немножко больше времени, и я попал в первую свою русскую организацию, скаутскую, вроде пионеров, которая отличалась от других тем, что, кроме обычных летних лагерных занятий, таких, как палатки, костры, готовка на улице, лесные походы и так далее, нам прививалась русская культура и русское сознание; лет с десяти-одиннадцати нас учили воинскому строю, и всё это с тем, чтобы когда-нибудь вернуться в Россию и отдать России обратно всё, что мы смогли собрать на Западе, чтобы мы могли быть действительно и физически и умственно готовы к этому… Так нас учили в течение целого ряда лет; летние лагеря длились месяц-полтора, строгие, суровые лагеря; обыкновенно часа три в день воинского строя, гимнастика, спорт, были занятия по русским предметам; спали на голой земле, ели очень мало, потому что тогда очень трудно было вообще найти каких-нибудь денег, но жили очень счастливо. Возвращались домой худющие; сколько бы ни купались — в речке, в море — возвращались грязные до неописуемости, потому что, конечно, больше плавали, чем отмывались. И вот так из года в год строилась большая община молодежи. Последний раз, когда я уже был не мальчиком, а взрослым и заведовал таким летним лагерем, то в разных лагерях на юге Франции нас было более тысячи молодых людей и девушек, девочек и мальчиков.
Читать дальше