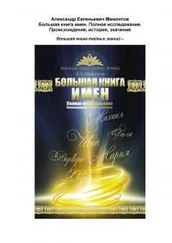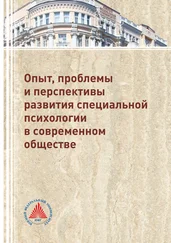В последние годы появились статьи о заговорах Е. Елеонской. Одна статья посвящена заговорам и колдовству на Руси в XVII и XVIII столетиях и написана на основании данных Московского Архива М. Юстиции *136. Сообщаются интересные исторические данные, но к сожалению, довольно скудные. "Судить о точном содержании заговоров по судебным бумагам трудно, так как подлинники в большинстве случаев сжигались, и сохранялось лишь краткое изложение или обозначение, сделанное дьяками" *137. Все-таки автор находит, что сохранившиеся в судебных бумагах письменные заговоры, по сравнению с устными заговорами, отличаются сложностью и носят явные следы обработки и книжного влияния *138. Другая статья касается конструкции заговоров *139. Основною заговорной формулой Е. Елеонская считает приказание, которое "осложняется с внешней, так сказать, стилистической стороны, указаниями на существа сильнейшие. Появление таких осложнений можно бъяснить желанием усилить даваемое приказание" *140. Автор находит сходство в типичных комбинациях плана сказок и плана заговоров. По его мнению, заговоры белорусские "представляют собою не что иное, как вынутые из сказки эпизоды, к последним и прикр плен тот или другой заговор" *141. Причины подобного совпадения лежат не в воздействии сказки на заговор, а "должны быть усматриваемы в том поэтическом мышлении, которое под влиянием известного мировоззрения, ассоциируя разнообразные впечатления и пр дставления, создает эпические картины вообще и затем, по мере надобности, размещает их в различных произведениях поэтического творчества" *142.
Из сделанного обзора видно, как русские ученые в своих исследованиях тесно примыкали друг к другу. Такую связь с предшественниками с первого взгляда не так легко определить у Мансикка, автора последнего крупного исследования русских заговоров. Отчасти это объясняется тем, что он имел за собою другую традицию исследования, традицию зап.-европейскую. Поэтому, чтобы яснее определилось место его труда, среди других исследований, я постараюсь рассмотреть, насколько это для меня сейчас возможно, опыты изучения заговоров на Западе, главным образом в Германии. За цельный и систематический обзор я не берусь и предлагаю только часть того, что мне случайно попалось под руки во время работы. Но, судя уже по этим отрывочным сведениям, можно заключить, что заговорная литература там разработана слабее, чем у нас *143. Да это и вполне понятно. У нас собрано громадное количество заговоров. Этим, конечно, объясняется то внимание, какое им было уделено учеными, и плодотворность их исследований. По количеству собранного материала ближе других подходят к нам немцы. Но и они далеко отстают. Хотя русские ученые, при исследовании заговора, и начали с пересаживания на русскую почву мифологических взглядов Гримма, Шварца, Куна, но уже довольно скоро в лице Потебни они с ними порвали. В немецкой же литературе отголоски их доходят до наших дней через Вуттке, Аммана, Эбермана. И только в самое последнее время Мансикка решительно порывает с ними.
Началом изучения немецких заговоров, кажется, надо считать открытие знаменитых Мерзебургских заговоров в 1842-м году. Так как честь их открытия принадлежала мифологической школе, то понятно, какое толкование должны были они получить, а затем и все вообще заговоры. Ярким представителем мифологического взгляда на заговоры является Вутке. Он также, как и наши мифологи, приписывает заговорам дохристианское происхождение и христианский элемент в них считает позднейшим наслоением *144. Всю массу заговоров он разделяет на два вида: один имеет форму приказания, другой - форму повествования *145. Под второй группой он разумеет заговоры с эпической частью и усматривает в них параллелизм мышления (Parallelismus der Gedanken). Сравнивая параллелистические формулы с симпатическими средствами, Вутке говорит: "Чем является в вещественной чаре симпатическое средство, тем в идеальной сфере - формула-параллелизм" *146. Эти-то формулы-параллелизмы (Parallelformeln) он и считает древнейшими и первоначальными у немецкого народа, потому что они гораздо более отвечают простоду ному, остроумному и мистическому характеру немецкого народа; они невиннее и скромнее, чем другие, которые в гораздо большей степени носят на себе печать мага, гордого своим знанием и искусством" *147. Такую же древность, как и Вутке, приписывает заговорам, много лет спустя, и Амман. Он возводит их к языческой молитве. Вот что находим в его предисловии к сборнику заговоров, вышедшему в 1891 г. "Древнейшие, прекраснейшие заговоры у всех народов пере одят в молитвы, которые произносились при жертвоприношениях. Древнейшие заговоры немецкого народа по крайней мере восходят к тем временам, когда народ еще верил в свою первобытную религию и самодельных богов. Может быть, древние заговоры часто являют я ни чем иным, как омертвевшими формулами молитв времен язычества. Потом, во времена христианства, вместо языческих божеств, выступают Бог, Христос, Мария, апостолы и святые" *148.
Читать дальше