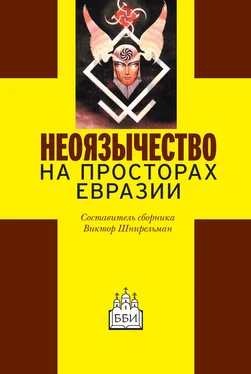Отдельные части книги автор посвятил таким важнейшим проявлениям «национализма», как «национальная культура» и «национальное государство». Если культуру он связывает с дисциплинированностью, религией и философствованием, то государство называет «идеалом», к которому должен стремиться каждый народ. Народы без своего государства (например, баски), многонациональные государства (Швейцария, Австрия), «народы без единства» (цыгане, евреи) предстают в глазах Брастыньша как «тяжелое наследие старой Европы». Он надеялся, что судьба латышей будет иной.
Культовые отправления диевтуров
Э. Брастыньш разработал также культовую систему диевтурибы. В «Церокслисе» описаны ее культовые принадлежности: божественные предметы (dievāinas lietas), места, знаки, учреждения, должности. К божественным местам причислены «дом Диевса/Божий дом» (Dievnams) – место для собраний, церковь (baznīca) – место, посвященное Диевсу и Маре, и так называемая рамава (Ramava) – священное место в лесу, где отмечали праздники. Вот как они описаны: «Древние дома Диевса были тенистые места, обсаженные кленами и дубами, их называли также тенями Диевса, Святыми тенями. Только позднее на этих местах начали строить здания. В наше время домом Диевса мы называем здание, построенное для собраний, посвященных величанию Диевса» (Ц, 112).
Итак, хотя в начале своего труда Брастыньш пишет о латышской диевтурибе как индивидуальной религии, но к концу он приходит к необходимости религиозных собраний! Для этого в «Церокслисе» вводится понятие общины, или братства (draudze, между прочим, церковный термин – «лютеранский приход»), как «сообщества единомышленников», что подкрепляется такими текстами народных песен: «Близко, близко сельские пастухи, только вместе (draudze) не пасут,/ То ли сами разбранились, то ли телята разбодались?»; «Теснее, теснее, смелее, смелее, держись, мое братство,/ Пусть прочие свадебные гости как гороховая солома стелются».
Вот что пишет об общине Э. Брастыньш: «Община – настоящее и хорошее латышское слово, которое христианство заимствовало для нужд своей церкви. Но это не причина для диевтуров отказываться от этого слова. Общинами диевтурибы сейчас называют объединения диевтуров, которые составляют Сообщество Диевтуров Латвии (Latvijas Dievturu Sadraudze). В древности у нас не было необходимости ни в каких особых общинах диевтуров, так как тогда каждый латыш жил по законам одной религии, никем не отравляемый. Теперь, напротив, диевтуров окружают чужие верования. Чтобы легче устоять среди них и скорее освободить соотечественников от духовного ига, всем диевтурам нужно объединиться в общины» (Ц, 120).
Наименьшая ячейка – группа диевтуров, объединяющая до 30 членов, называлась puduris («купа»), несколько «куп» составляли draudze («общину»). Из общин, сложившихся в Риге, Валмиере, Лиепае, Елгаве, складывалась вся организация – sadraudze (объединение общин).
Любопытно, что через несколько лет Брастыньш напишет о братствах как временной мере в деле распространения диевтурибы. К настоящему времени в различных организациях диевтуров сложились различные, неунифицированные культы. Диевтуриба сформировалась без священства, многие (хотя не все) диевтуры полагают, что «каждый может вступать в связь с Диевсом, проводить ритуалы».
Не обращая внимания на христианское происхождение слова baznīca от рус. «божница», он определяет понятие «церковь» как «обсаженные деревьями места, трудно достижимые места вблизи жилищ», которые, оказывается, были в приусадебных садах практически всякого хозяина (Ц, 113). Рамавы – места успокоения, леса с божественными местами, где погребали/ «упокаивали» усопших, а также собирались на праздниках (Ц, 114). Брастыньш приводит высказывание А. Швабе о рамаве: «Огромная историческая роль религии прямо объясняется общественным характером, раскрашенным красками религиозного культа, когда культовые песни, танцы и церемонии погружали в экстаз «умершее в сердечных болях» сердце (13250, 42), и возвышенное чувство силы и единство самих собравшихся людских масс рождало иллюзию религиозной «рамувы», которая высушивает слезы повседневности, утишает боли дней пребывания в рабстве. Полумифическая-полуисторическая Рамава Пруссии со священной дубовой рощей – только красочный символ всех тех бесчисленных «рамув» религиозных праздников древней Латвии, которые существовали повсюду, все равно, были ли они воплощены в особых рощах и холмах с идолами или же жили только как преходящие чувства в эмоциях масс на праздниках…» (Ц, 114).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу