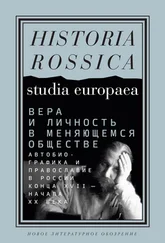В последующем, моя задача будет заключаться в рассмотрении двух попыток найти особенные богословские ресурсы для того, чтобы расширить, а также подвергнуть критике стандартные представления о том, что это значит – быть человеческой личностью. Первой будет тринитарная модель, разработанная Иоанном Зизиуласом (митрополитом Пергамским), а второй – христологическая модель, которая, на мой взгляд, имеет более широкую поддержку в христианской традиции как Востока, так и Запада и которая в то же время более восприимчива к легитимным философским вопросам, которые мы описали выше.
4. Троица как модель человеческой личности: Зизиулас
В своей весьма влиятельной работе Бытие как общение: Очерки о личности и Церкви , изданной в 1985 году [23], Зизиулас проводит принципиальное различие между античной греко-римской и современной западной концепциями личности, с одной стороны, и святоотеческой концепцией личности, с другой стороны. Этим самым Зизиулас предполагает, что в римской мысли (как это засвидетельствовано, например, в трудах Цицерона) « persona – это роль, которую человек играет в своих социальных и правовых отношениях, моральная или “правовая” личность, которая ни коллективно, ни индивидуально не имеет ничего общего с онтологией личности» [24].
На этом фоне Зизиулас утверждает, что «личность и как концепция, и как живая реальность – есть исключительно продукт святоотеческой мысли» [25].
Мы уже увидели, что эта гипотеза не выдерживает критики по отношению к дохристианским источникам. Цицерон не указывает на человеческие личности, как на имеющие только несколько общественных ролей, но скорее как на разумных существ, которые участвуют в божественной рациональности, проявляющей себя в структуре физического космоса. В этом смысле характеристики, ориентированные на отношения, являются центральными и для стоической концепции личности. Не лишен проблем также и тезис Зизиуласа об абсолютной оригинальности концепции личности каппадокийских отцов (Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий Назианзин). Как было детально показано Лукианом Турческу [26], каппадокийские отцы также обычно говорили о человеке как об индивидууме ( atomos ), вполне в согласии с нео-платониками их времени. Уникальность человеческих существ возводилась к их статусу как разумных существ ( logikoi ), наделенных свободой ( autokrates ) и независимостью ( adespoton ) [27]. Эти общие человеческие черты, однако, всегда объединены особым образом в конкретных людях таким образом, что каждая личность соединяет в себе несколько характерных свойств (Григорий Нисский, О различии между природой и ипостасью 6, 4–6: syndromēn tōn idiōmatōn ). Как было показано Турческу, этот взгляд находится в полном согласии с неоплатонической антропологией Порфирия [28].
Тем самым я не подвергаю сомнению основной тезис Зизиуласа о перевороте, произошедшем в концепции Божества. Как верно показано Зизиуласом, этот переворот произошел вместе с идентификацией «ипостаси» с «личностью» в учении о Троице, которая была осуществлена в рамках того, что Льюис Айрес [29]недавно назвал «богословской культурой Никейского богословия». Что было действительно революционным по отношению к дохристианской мысли, так это то, что само бытие Бога стало рассматриваться как находящееся в общении. Божественные личности ( prosōpa = hypostaseis ) определены как существующие в отношениях, в общении. «Без концепции общения было бы невозможно говорить о бытии Бога» [30]. Таким образом, Отец есть Отец только по отношению к Сыну, Сын есть Сын только по отношению к Отцу, Дух есть Дух только по отношению к Отцу, от которого он исходит (Ин 15:26). Только во взаимной самоотдаче и перихорезисе божественных личностей Бог существует как Бог. Следуя традиции, Зизиулас при этом наделяет Отца особой функцией источника ( aitia ) личностности Сына и Духа, а поэтому и божества, ведь иначе пришлось бы ссылаться на непостижимую ousia [31] божественного общения как на источник личностных характеристик Отца, Сына и Духа. В этом случае божественные личности имели бы только опосредованный онтологический статус, находясь в субординации изначальному принципу ousia . Точнее, Зизиулас указывает на два взаимосвязанных онтологических тезиса тринитарного богословия: «(а) Личность больше не есть придаток к бытию, который мы добавляем к конкретному существу лишь после того, как мы установили ее онтологический статус. Она сама в себе есть ипостась бытия . (б) Существа больше не возводят свое бытие к бытию самому по себе, поскольку бытие больше не является абсолютной категорией само по себе, но к личности, именно тому, что конституирует бытие, тому, что позволяет существам быть существами» [32].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
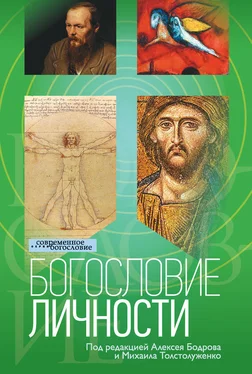



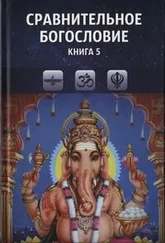
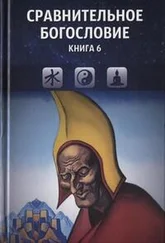

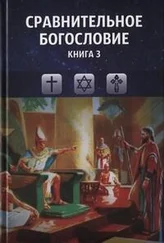


![Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе [litres]](/books/431444/kollektiv-avtorov-vera-i-lichnost-v-menyayuchemsya-obch-thumb.webp)