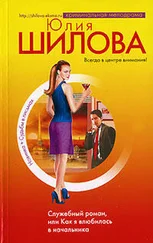Меня бьет крупная дрожь, но я говорю твердо:
— Долг велит, дети. В жизни каждого человека бывают минуты, когда надо перешагнуть через все, даже через самого себя. Я хочу, чтобы вы выросли такими же, как ваш папочка. И всегда во всем воздерживались.
Ухожу на службу. Весь день сижу как прикованный к креслу, смотрю на стрелки больших электронных часов на стене. Время неумолимо катится к моему закату. Иду в туалет и очень тщательно мою руки, тру их и пемзой, и мылом, и щеткой, аккуратно подстригаю ногти. Моих рук никто не увидит, но все равно они должны быть чистыми.
Перед самым собранием Булавкин подмигивает мне, зовет в темный коридор, оглядывается по сторонам, вытаскивает из заднего кармана плоскую бутылку:
— Хлебни для храбрости…
Я отказываюсь потому, что на такое большое дело надо идти не только с чистыми руками, но и с трезвой головой.
Подаю Булавкину веревку:
— Привяжи мне руки к телу.
— Зачем?!
— Боюсь, не смогу удержать.
— Это ты правильно придумал, — хихикает Булавкин. — Перестраховка — главное дело для перестраховщика.
Он опутал меня веревками, как веригами.
— Крепче! Еще крепче! — требую. — Проверь на разрыв.
Он тянет веревки изо всех сил — нет, эти путы не порвать.
На собрание Верочка ведет меня под локоть, ноги у меня ватные и не слушаются, руки виновато висят вдоль тела и взывают о помощи.
Вокруг меня — мертвая зона. Я один в окружении пустых стульев. Люди садятся от меня подальше, некоторые из сострадания не могут на меня смотреть, украдкой смахивают слезу.
Меня сажают в президиум, рядом вьет гнездышко Верочка, решив идти со мной до конца, до самой плахи, до гвоздей. Ее бьет мелкий озноб, она снова и снова трогает мои путы, проверяя их надежность.
На трибуне лежит листок с речью. Выступающие приходят и уходят, а листок остается. О, это прекрасная речь! Образно-величавая, бурно-спокойная, отрицательно-утверждающая, ласково-гневная. Ее стряпал опытнейший повар. Точно отмеренное число фактов и аргументов он всыпал в воду общих слов, для образности вбросил немного сравнений и метафор, вместо специй положил несколько народных пословиц и поговорок, все хорошенько перемешал, прокипятил на огне критики, но не критиканства, — и блюдо для всех готово. Сытно, да не вкусно. Допускаются лишь нюансы в произношении текста. Один читает его спокойно и ритмично, другой нараспев речитативом, третий шепотом, четвертый громыхает басом, пятый грызет слова яростно, как Демосфен камни, шестой прокатывает фразы во рту лениво, вроде бы морские волны прибрежную гальку. Разница в исполнении компенсирует однообразие текста. Кажется, что в зале идет дискуссия по большому счету и в споре истин рождается больше, чем надо. Ораторов награждают жиденькими, как чай в буфете, аплодисментами. В последнее время люди экономят аплодисменты, оно и правильно: у народа ладони не казенные, их беречь надо. А овации вообще встречаются крайне редко, когда-то их было так много, что теперь они стали редкостью, да и руководство больше не аплодирует овациям, тем более бурным.
Я напряженно жду. Вот сейчас будет голосование. Бицепсы на моих руках вздулись, трицепсы натянулись как паруса. Я дышу словно загнанная лошадь. Верочка шепчет:
— Крепись, милый! Все в твоих руках!
Руки мои воют от боли. Начинают голосовать. Председатель командует собранию:
— Руки вверх!
Они взметнулись на секунду раньше приказа. Целый лес рук. Все, кроме моих.
Зловещая пауза. Люди смотрят на меня. Ждут. Трещат веревки, как корабельные канаты. Моя левая рука рвется на свободу.
— Вера, держи ее! — шепчу я.
Верочка припечатала руку к столу тугой тяжелой грудью, но левая отшвырнула Верочку, а вместе с нею набежавшего для помощи Булавкина и гордо поднялась вверх. Мой мозг посылал ей грозные команды, заставляя вернуться назад, но рука не повинуется и гордо реет над моей головой, как флаг. Правую свою длань, увы, я тоже не могу удержать в повиновении, она рванулась за левой, и вот они уже обе над моей головой, над всеми головами, они выше всех.
Верочка роняет лицо на стол, ее плечи часто-часто вздрагивают, говорит голосом, переходящим в тихое стенание:
— Руки нам не повинуются. Они — сильнее нас!
VIII
Когда на собрании объявили перерыв, меня окружили штатные единицы, с любопытством рассматривали, качали головами, осматривали мои пустые рукава. Кто-то зажег сигарету и воткнул мне в рот.
— Они тебя покинули, потому что ты их предал.
Читать дальше